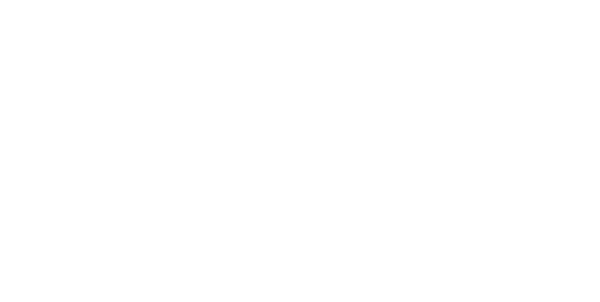Alexandra Sankova, Director of the Moscow Museum of Design: We are in the Tretyakov Gallery on Krymsky Val today for our first discussion. This is a series of discusions dedicated to the avant-garde and design which the Moscow Museum of Design is conducting in tandem with the Tretyakov Gallery. We are not in this hall today by chance: This discussion will take place in connection with the OBMOHU 1921 exhibit (Society of Young Artists, the early stage of Russian Constructivism - Ed.). It was a turning point for the avant-garde, when a new project culture began emerging and the first working group of Constructivists proclaimed its theories and conceptions. It was a time when design was bigger than art. To this day the discussions continue - what is design, what is the difference between design and art, where do these two concepts intersect, when do they become blurred, and when does the line between them become clearest of all? Whatever the case, design is a very practical endeavor. Artists called themselves draftsmen because there was not yet a concept of design. They were seeking for a word and they said, "we are not artists!" But they could not articulate a word which they could apply to themselves. Project design culture was formed at the beginning of the last century, in the 1920s, and so this here is a place of power. We specifically scheduled this discussion in an exhibition hall rather than in a conference room. We wanted guests to pass through the halls and see the work of artists in the Tretyakov Gallery's collection. Indeed, this is one of the richest collections of the avant-garde, transferred here in 1920 from the disbanded Museum of Artistic Culture. When George Costakis emigrated part of his collection was added to the Tretyakov Gallery which now holds the most important collection in Russia of Rodchenko, Tatlin, Lissitzky, Klutsis, Stenberg, Suetin, Klucis and Chashnik.
Many think the avant-garde is something that has passed and gone. Is there an avant-garde in contemporary life or theatre?
Boris Yukhananov: You ask whether the avant-garde is something that cannot end. By asking, you already hint at the nature of the avant-garde: it is an integral part of culture's essence. We might restate your question as follows: Is the avant-garde an integral part of all cultural processes, whatever they may be? Then I can say this: There is a stage in the creative path of every artist when he pulls away from his very self, when he finds himself in the middle of a risky flight, journey or situation. The key word here is “risk.” An artist must overcome the responsibilities that education, tradition and and his longed-for attainment of craft have instilled in him. He must exceed the limits of these responsibilities at the risk of violence, breakdowns and the loss of whatever he has possessed. He now finds himself in forbidden territory, taboo even for himself. It is a risky place both from the point of view of a life in art, as well as just a regular life. It is a life doomed to uncertainty as well as to the self-indulgence of the soul and the consciousness, which seeks to conquer territories new to this individual. It is also uncertain for culture as a whole (culture is not, of course, an abstract, it exists among personalities, their relations and their relationships). In that sense, yes, I am prepared to agree that the avant-garde exists today.
However, the very word "avant-garde" – for me personally as well as for the history of culture – belongs to the first third of the 20th century. It does not exceed that. If the question is posed as you pose it, I would say: The avant-garde is an essential territory. I can imagine the case of an artist surviving the internal explosion of the basis for all his creative work and then moving into uncharted territory. I can even imagine him emerging on the other side and entering into new stages of development based on what he stored up inside himself during that time. This is the kind of breakthrough that can reveal to an individual new areas of thought and professional applications. It may trap him so that he perishes, surrounded by sketches, ideas, self-indulgence and the risk of his own radical voyage. Under the influence of inspiration he may escape into a swamp. Inspiration may not be enough to get him back to dry land. By definition the avant-guard must be accompanied by risk. To enter its territory one must deactivate the sense of self-preservation. This may be aided by social inertia, the experience of revolutionary enthusiasm, the enthusiasm of denial, or the inspiration of love. An artist's life is accompanied by various types of inspiration, but the road home is a path that requires other properties of mind, soul and destiny.
Salkova: I imagine two situations: a director, the chief director of a theatre, and the actors who execute his will. And the second: actors who bring something to a production, who influence its course. Which of these happens in your theatre?
Yukhananov: There are all kinds of theatre, you know. If you mean me specifically... There have been large periods in my life when I did not work with actors at all. Nor did I want to. I became disillusioned in that very concept of “the actor.” The actor struck me as a prostitute who, in cinema, trades with his or her face, or in theatre, trades with his or her soul. I didn't want to have anything to do with prostitution in art. I was not prepared to communicate personally with people who were willing to do anything. This was my own extreme inner experiment, particularly in the 1980s, and it required co-authorship, not subordination or sale-and-purchase. The point isn't the form of what I do: people understand form as certain external attributes, but I'm talking about form in the sense of antiquity, the internal structure of a work. But the themes, the sought-after form, and the style of life in which my productions were created in the second half of the 1980s – that is, the underground – is a totally vulnerable territory which did not require skill as much as a sense of brotherhood and artistic freedom. I worked with artists, rock musicians and with my colleages from the parallel cinema. I worked with good-for-nothings who enjoyed killing time in the theatre and I liked them very much because they were characterized by the spirit of amateurism and they had great, untapped gifts. This is a huge number of people who followed me to St. Petersburg and then came back to Moscow; we hung out together as was the custom, but we also worked. In order to take part in our adventures, actors had to shed their skins. This was a difficult period for me, there is no getting around that. There was the necessity of the production process, which was bound up in putting together the means for the production. That wasn't so much a matter of money (for all intents and purposes, money at that time did not exist as a form of consciousness or action), as it was the necessity of sewing costumes and making sets, keeping productions running, conducting rehearsals and training. I did this with a huge stable of free individuals in St. Petersburg and we called it Theatre Theatre. Later I learned how to create a new kind of austerity: an artist had to go through the process of individualization, as Deleuze put it, there's no way around that. But individualization assumes not only the creation of a personal lexicon or image – that is, the method in which you work. This individualization, particularly in the territory of collective art, assumes the creation of an individual constitution. You must be an individual government-state. This is extremely important for getting work done. You have to start all over in your agreements with people; there was nothing assumed, no business as usual that you could bring in from another sphere and apply to theatre, especially the theatre that in the early 1990s was being done in my Studio of Individual Directing. I wasted a lot of time on socio-politics with that one given company. I created a constitution with my students and friends that was the essential image of the project we were involved in. In fact, when working in art you must create this constitution anew any time you have dealings with more than two people. The integral parts of an artist's work are distinguishing problems, having the ability to deal with them, finding a way to include them in your creative work, adhering to your constitution and developing your creative work within its confines. All of these are bound up in what I call “processual art.”
When you come to work at a state theatre you inherit an inert, unproductive system of relationships. You have experience and you see this constitutional problem – it concerns the most common matters, people's perceptions of themselves, lifestyles, the ways in which you facilitate labor. You must overhaul all that – bring everything out in the open, find the opportunity to restructure the work in such a way that you maintain the lifestyle of those who are innocent in regards to contemporary art, and keeping in mind the depths at which contemporary art exists. You can't ask anyone not to help or hinder you because, in the end, they can neither help nor hinder. It's all a matter of the people themselves who cook things up together, who gather to work and create. You must have artistic intentions in mind and actively look for a way to bring them to fruition. This is serious business and it requires literacy, sensitivity, a deep, “antiquarian” understanding of art, and time. So there's no point in talking here about having the will to tell an actor, “Act!” so that he obeys... That's not what happens.
Salkova: How did you move from one project to another? You now have a whole structure, a regulated life, but when you did your projects before, or moved from one project to another – was that all done on intuition? Was that a process of constant search or experimentation? Did you have some great, global goal toward which you worked?
Yukhananov: It was neither. I never work intuitively. That's not the way I live. Intuition is something you cannot control. That's the first thing you need to understand about it. Intuition is light, a voice, a constant background, that resounds inside any artist. You must learn to listen to your intuition. You can't control it. Like conscience, it cannot be manipulated. Artistic intuition is the other side of conscience. So you hear yourself intuitively. Just as you do your rational side. An artist cannot exist without intuition. But the rational is a whole universe, too, you know? Not just images, but ideas and intentions arise by rational means. After all, aspirations or desires… their source is intention. Working with intentions is working with what has emerged from the intuitive and the rational. This is the only kind of work that can properly be named a method. In terms of percents, the rational definitely occupies less than half.
My profession is bound up in what I call the "new processual art." It is directing, but in a different sense. It includes the experience of working with new mysterial structures, of working with projects that are still evolving as you launch them, still in the development stage. You must support this evolution. It's an attempt to work with what I call the development of the inductive method. There's another way: as you do a project you describe the beginning and the result, your goal; you map out the path that will bring it to fruition, you count the numbers, think about it and fantasize about it. Naturally, I work in this area and I know something about it. But there is still another way, which was revealed to me in the late '80s (in particular, thanks to my theatrical research), and it's called "new processual art." This is when you work with a project, the beginning of whose evolution you understand quite clearly. This is when you get together and you say, "Here we go!" but there is no final end to it and there cannot be. As a result it is an infinite work. You work with infinite time. Along the way the project leaves traces on the roadside – these are little end results. But the project itself continues. What stands behind this? What are the laws of this kind of work? How do people participate in it? What are these projects of an evolutionary mode that essentially define the whole "processual" territory?
Salkova: Give me an example so we understand what you mean.
Yukhananov: The Orchard, for example. I did that in the 1990s. It was a huge project. It was based on Chekhov's The Cherry Orchard. I admitted a new class to the Studio of Individual Directing. I had emerged from the underground at this point because of tragic forebodings I had about the future of our country. I staged a production called Octavia, based on a play by Seneca, in which the blood of 1989 flowed and flowed. Nero burns Rome and then I come in with Trotsky's essay about Lenin. We performed these shows in a Moscow housing office. This all happened with a who's who of the underground crowd. I was struck by a foreboding of the collapse of an empire, blood, horror and all kinds of crap. Yura Kharikov came up with a brilliant stage design – an upturned she-wolf whose nipples rose upwards as if they were the towers of the Kremlin walls. The intention was that it would float down the Moscow River… with these towers and blood flowing and smoke rising. It was to be an expensive project.
We played it in a housing office where the portraits of the members of the Politburo still hung on the walls. We had gladiator fights and Katya Ryzhikova put on ritual performances. Irene Burmistrova did a fashion show and Sasha Petlyura crawled out from under a chair for the first time. Dunya Smirnova unleashed documentary speeches. There was a lot going on there, but it was essentially a tragic tale – Nero assassinating his entire family and setting Rome on fire. Oh, and Lenin was played by Nikita Mikhailovsky and Zhenya Chyorba. As you know, in Soviet times actors were honored as People's Artists for performing Lenin. As such, I consider them both People's Artists.
Salkova: Is The Orchard still evolving?
Yukhananov: I left it in the '90s. It's a Chekhov text. We understood immediately that we would interpret it as a myth about an indestructable garden. The adventures began as soon as we padded the text with mythology. I figured, why do a salon drama, that's old hat, let's play a game: Imagine that Chekhov – Mahatma – wrote a sacred text about a nation that had gone through desacralization because all the words in the language had to be freed of false sanctimony. Speaking had become impossible, words had been hijacked by the Soviet way of life, by all the manipulations of the previous 70 years. You couldn't use them anymore. Desacralizing strategies were required in order to be liberated from that. These included mockery, attacks and so on.
For example, I desacralized the Komsomol with a project called Miss Komsomol. It was 1986 and I suggested mounting a Miss Komsomol contest. No sooner did they agree than the Komsomol began falling apart. There were lots of things like that: There was the Zero Object that our friends in St. Petersburg dreamed up, new artists from the Club of Mayakovsky's Friends, Timur Novikov and his team. They did this thing called Zero Object, and we came up with a strategy of multiplying by zero. For example, Miss Komsomol and battles between the Whites and Reds in honor of the 100th anniversary of hockey in Canada, wherein a bunch of hooligans from the St. Petersburg outskirts got together with a team from the city center and – how do you put this in plain Russian? – mixed it up in fisticuffs. A huge fight in a stadium in honor of Canadian hockey – that's what you call multiplying any anniversary by zero. Those are the kinds of things we did.
Or take the time I was an object of kinetic equilibrium. Artists, our older dissident brethren, subordinated themselves to Soviet rituals. They would get together, elect an artistic council. Their whole lives they had dreamed of carnage but when they got the opportunity to do something they sat down to elect an artistic council: This picture will do, this picture won't do. They made their choices and hung up their pictures. That's when we showed up. Timur and his Zero Object (he wasn't chosen for the artistic council, he was shut out, banned) and I were probably out of our minds. I simply lifted my leg up and announced that I was an object of living equilibrium. They hung a sign on me, “Boris Yukhananov: Kinetic Equilibrium.” And I demanded that they add me to their exhibit because some Finns had bought me and were planning on taking me to Finland. In short, I was a bought object and they had no right to hold me at the border. These old bearded brethren ran around me demanding that I be banned because I had not been passed by the artistic council. The Soviet frame of mind was tenacious, its structures were deeply embedded in the consciousness, and it had to be broken up, you had to liberate yourself from it – you had to come out from under the power of mad, false roots.
This year I plan to open up my archive. I must publish it in order for it to begin to breathe with its people and their adventures. We created a myth about a Garden, the Orchard. It was a pristine project, liberated from the previous era. We didn't want gloom and doom, that's for certain. I don't want it now, either. You can't do that, you know – unload gloom and doom on people. You need to find a perspective that avoids the catastrophic.
Salkova: That sounds like a difficult thing to do these days.
Yukhananov: Why waste the efforts, money and lives of so many people – by which I mean my art – why waste that on whipping up gloom and doom? Why do that? I want to share the possibility of a non-catastrophic existence. Even if you focus on catastrophe and tragedy you'll still have to hear in it the initial pushback that comes from man and the Creator. The Orchard was an experiment in researching a non-catastrophic territory of life. What is the orchard for Chekhov? In our mythology it was a space of happiness. We understand that it was a comedy – it says the orchard is being cut down, but at the same time it is indestructable. Thus, there arises the tale of an indestructable orchard that is constantly perishing.
Next you have the so-called Orchard creatures. In order to go beyond the limits of the anthropological zone. Theatre is not doomed to tell about humans all the time, about how he is the center of the world – what amazing Narcicism! You've got to get outside, put some distance between yourself and man, and then see something in yourself. Those were the kinds of ideas that accompanied the beginning of our research.
We worked on that project for 11 years. Later, of course, we discovered a visionary experience, the territory of happiness. The Orchard creatures performed that they were constantly dying and being resurrected. Then the orchard itself began playing with us. That was something. Imagine that Moscow is an orchard, a garden. It thought awhile and decided that it wanted to play the game of indestructable creatures with us, that it wanted to die and be resurrected. Suddenly it cracked open and began to play as if it were dying – and we were all genuinely worried. We think, this is it: catastrophe, the end. But we finally realized that Moscow was just toying with us, that great, big she-bear, and we were just porcupines in it. Then it would begin rolling on the floor again, shouting that it was dying. A lot can come into your head in that moment before you realize it's all a game.
Salkova: Is this project being continued at the Stanislavsky Electrotheatre?
Yukhananov: No, no. It lasted a long time and it was full of adventures. It let people escape the power of a selfish understanding of their profession. The actor became an artist, a situation arose in which people made things.
Salkova: Were these professional actors?
Yukhananov: Professional and non-professional – there were directors, too, because this was in the Studio of Individual Directing. These were people who studied directing in theatre, cinema and television. Even then I knew how to instill in worthy people the ability to learn, to earn money and to become producers ready to take wild risks. Education is, first of all, the act of cultivating in oneself the ability to grow with the help of books, the help of the universe, and other sources. This is a self-established state that can help take people beyond the limits placed on them by the mysteries, fate and the Lord God. You must bring that out in people, give them the experience of discovering themselves. Only projects like this are evolutionary. Of course, they come to an end some day, but it is not we who finish them off. They come to fruition at the given time and space for various reasons. But in and of themselves they aim at eternity in their aspirations and intentions. Chains of such projects determine the climate in culture. I think in the future more and more such projects will occur. This is the art of the future, which I call the "new processual art."
Salkova: Is what you call the Theatre of Amplitude reflected in the Stanislavsky Electrotheatre?
Yukhananov: It participates in what I call the Theatre of Amplitude. Does the audience know what we're talking about – the Theatre of Amplitude? Chances are, no. Everybody probably has their own idea
Александра Санькова, директор Московского музея дизайна: Мы в Третьяковке на Крымском Валу, и у нас сегодня первая дискуссия. Это серия дискуссий, посвященная авангарду и дизайну, которую Московский музей дизайна делает вместе с Третьяковской галерей. И не просто так мы сегодня находимся в этом зале: дискуссия будет проходить на фоне выставки ОБМОХУ 1921 года (ОБщество МОлодых ХУдожников, ранняя ступень русского конструктивизма – прим. ред.). Это был переломный момент авангарда, когда стала формироваться проектная культура, и первая рабочая группа конструктивистов заявила о своих теориях, о своих концепциях, когда дизайн стал более, чем искусством. Идут дискуссии – что такое дизайн и в чем разница между дизайном и искусством, как эти два понятия пересекаются, когда они размываются, когда грань становится более острой? Однако, дизайн – вещь достаточно прикладная. Художники называли себя проектировщиками, потому что не было понятия дизайна, они искали это слово, они говорили «мы – не художники!», но не смогли сформулировать название – как бы они хотели себя называть. Проектная культура дизайна формировалась в начале прошлого века, в 20-х годах, и поэтому здесь – место силы. Мы специально сделали эту дискуссию в экспозиции, а не в конференц-зале. Чтобы гости проходили по залам и видели работы художников в коллекции Третьяковской галереи – а здесь, действительно, богатейшее собрание авангарда, которое было передано сюда в 1920-х годах из расформированного музея живописной культуры. Когда Костаки эмигрировал, часть его коллекции дополнила Третьяковскую галерею, и сейчас здесь находится важнейшее собрание в России: Родченко, Татлин, Лисицкий, Клуцис, Стенберги, Суетин, Клус, Чашник.
Многие думают, что авангард – это нечто такое, что было и завершилось. Существует ли авангард в современной жизни или в театре?
Борис Юхананов: Вы спрашиваете, является ли авангард чем-то, что не может завершиться? Тогда вы уже намекаете на то, чем он является: неотъемлемой частью существования культуры. И ваш вопрос можно так сформулировать: является ли авангард неотъемлемой частью всех процессов культуры, какими бы они ни были? И тогда я могу сказать так: в творчестве любого художника есть этап, где он отрывается от самого себя, где он оказывается в некоем рискованном полете, путешествии, ситуации. Ключевое слово «риск», художнику надо преодолеть ответственности, воспитанные в нем обучением, традицией, чаемым мастерством, выйти за пределы этих ответственностей за счет усилия, разрыва, разрушения того, что расположилось в нем самом. И тогда он оказывается в области запрещенной, табуированной для него самого. В рискованной области, с точки зрения художественной и обычной жизни человека обреченной на неопределенность, рядом с которой располагается баловство души и сознания, стремящееся завоевать области, новые для самого человека и для культуры в целом (поскольку она не существует абстрактно, она существует в личностях, в их связях, отношениях). Тогда да, тогда я готов согласиться с тем, что авангард существует сейчас. Хотя само слово «авангард» и для меня лично, как и для истории культуры остается в области первой трети XX века и не распространяется дальше. Если так, как вы задаете вопрос, я ответил бы: авангард – это необходимая территория. Возможно какой-то художник сможет выдержать внутренний взрыв всех оснований своего творчества, выход на неопределенные территории – да еще и выбраться оттуда в дальнейшее развитие того, что накапливается внутри. Это прорыв, который открывает для человека новые области мышления и профессионального применения человека. Который может окончиться тем, что человеку не удастся выбраться, и он сгинет в окружении эскизов, идей, баловства и риска радикальности собственного путешествия. Он может под воздействием вдохновения убежать в болото, и вдохновения может не хватить, чтоб выбраться обратно на сушу. Авангард не может не сопровождаться риском. Чтобы вступить на его территорию, надо обрезать чувство самосохранения. Этому может помочь социальная инерция, переживание революционного вдохновения, или вдохновения отрицания, или вдохновения любви. Разные образы вдохновения сопровождают жизнь художника, но обратный путь – это путь, требующий других свойств сознания, души, судьбы.
А.С.: Я представляю себе две ситуации: режиссер, главный человек в театре, и актеры выполняют его волю. И вторая – актеры что-то привносят в постановку, влияют на ход спектакля. Каким образом это происходит у вас в театре?
Б.Ю.: Театр разный, понимаете. Если говорить конкретно обо мне и о воле... Вы знаете, в моей судьбе были большие периоды, когда я вообще не работал с актерами, и мне не хотелось. Я был разочарован в самой этой позиции «актер». Мне казалось, что это такая проститутка, которая в кино торгует физиономией, а в театре торгует душой. Я не хотел иметь дело с проституцией в области искусства. Я не был готов общаться лично с людьми, готовыми на все. У меня был экстремальный внутренний опыт, особенно в 80-ые годы, который требовал соавторства, а не подчинения или купли-продажи. Дело не в форме того, что я делаю: форму понимают как некие внешние вещи, я сейчас говорю о форме в античном смысле, как о внутренней структуре произведения. Но темы, чаемая форма, образ жизни, внутри которого создавались мои спектакли во второй половине 80-х годов, то есть андеграунд, ничем не защищенная территория, которая требовала ни столько мастерства, сколько смыслового братства и художественной свободы. И я работал с художниками, рок-музыкантами, со своими товарищами по параллельному кино, я работал с просто бездельниками, которым было интересно побаловаться театром, и мне они очень нравились, потому что в них было много дилетантского настроения и много неиспользованного дарования. Все это огромное количество людей, которые вместе со мной перемещалось в Питер, потом обратно в Москву, тусовалось, как это было свойственно, но при этом мы работали. Актерам приходилось выходить из-под самих себя, чтобы участвовать в этих приключениях. Это был сложный период для меня, никуда не денешься. Оставалась производственная необходимость, связанная с накоплением средств для спектакля, включая в себя ни столько деньги (тогда денег практически не было как образа сознания и действий), но необходимость делать костюмы, сценографию, сохранять спектакль, вести репетиции, осуществлять тренинги. И с этим огромным стадом свободных людей мы все это делали в Питере, называлось это «Театр Театр». Потом я понял, как создать нового типа строгость: художнику приходится идти путем индивидуации, как говорил Делез, и никуда мы от этого не денемся, но индивидуация предполагает ни только создание собственной лексики или образа – метода, в котором ты работаешь. Эта индивидуация, особенно на территории коллективного искусства, предполагает создание индивидуальной конституции. Приходится быть индивидуальным государством. Это имеет огромное значение для осуществления работы. Ты должен с людьми заново договориться; не было ничего подразумеваемого, инерционного, что можно забрать из другой сферы и применить в области театра, особенно того, который в начале 90-х складывался на территории моей работы в Мастерской Индивидуальной Режиссуры. Я тратил много времени на социально-политический акт в отдельно взятой компании. Я создавал вместе со своими учениками и друзьями конституцию, которая оказывается необходимым образом того проекта, который ты делаешь. На самом деле, в нашем художественном труде, если речь идет больше чем о двух человеках, приходится каждый раз заново создавать эту конституцию. Различение проблематики, умение с ней обратиться, включив ее в художественную деятельность, соблюдение её и развитие внутри нее художественной деятельности – неотъемлемая часть труда художника, связанная с процессуальным искусством.
Когда ты приходишь в театр, то получаешь в наследство от государства непродуктивную инерционную систему отношений. Ты имеешь опыт и различаешь эту конституциативную проблему – в частности, она упирается в житейские вещи, в представления людей о самих себе, об образе жизни, об укладе, который должен обеспечить труд. Ты должен это заново перебрать – выговорить, найти возможность перестроить работу так, чтобы сохранить образ жизни людей, невинных по отношению к современному искусству, учитывая глубину, на которой современное искусство существует. И здесь нельзя обратиться к батюшке или к дядюшке и попросить их помочь, или попросить их не мешать, потому что, по большому счету, они не могут ни помочь, ни помешать. Все это дело самих людей, которые заваривают, собираются вместе и делают, и осуществляют, имея художественные намерения, ища путь их воплощения. Дело это серьезное, требующее грамотности, чуткости, художественной антикварности и времени. Поэтому говорить о том, что какая-то воля говорит актеру «делай!», а тот подчиняется... Нет, так не происходит.
А.С.: Как вы двигались от одного проекта к другому? Сейчас у вас есть цельная структура, урегулированная жизнь, а раньше, когда вы делали свои проекты или переходили от одного проекта к другому, – у вас все это было интуитивно? Вы делали это в постоянном поиске или эксперименте? Была какая-то глобальная финальная цель, к которой вы двигались?
Б.Ю.: Ни то, ни другое. Интуитивно я вообще не работаю. Я иначе существую. Интуиция – это что-то, чем ты не можешь управлять. Это первое, что про нее нужно понять. Интуиция – это свет, голос, постоянный фон, который звучит в любом художнике. Надо научиться слышать интуицию. Управлять ей нельзя. Она, как и совесть, не поддается манипуляции. Это обратная сторона совести – художественная интуиция. Поэтому ты слышишь себя интуитивно. Так же точно, как и рациональная сторона. Художник не может без этой стороны. Но и рациональная – это космос, понимаете? Рациональным способом в тебе возникают не только образы, но и идеи, и намерения тоже рациональный образом оказываются в тебе. А ведь стремление или желание… их источником является намерение. Работа с намерениями – это работа с тем, что произошло из интуитивного и рационального. Только об этой работе можно говорить, как о методе. В процентных отношениях – рациональное точно меньше половины занимает.
Моя профессия связана с тем, что я называю «новым процессуальным искусством». Это режиссура, но в другом понимании. Она включает в себя опыт работы новыми мистериальными структурами, опыт работы с проектами, которые ты запускаешь в эволюцию, они развиваются, а ты должен эту эволюцию поддерживать. Опыт работы с тем, что я называю индуктивным методом развития. Можно себе представить противоположный путь: ты делаешь проект, ты описываешь начало, описываешь его результат, цель, ты структурируешь путь осуществления ее, считаешь, думаешь, фантазируешь. Естественно, я в этой области работаю и кое-что понимаю про это. Но есть и другой путь, который открылся мне в конце 80-х годов» (в частности, благодаря моим театральным исследованиям) – «новое процессуальное искусство. Это работа с проектом, который ты запускаешь в эволюцию и точно понимаешь точку его начала. Когда-то мы встретились и сказали «поехали», а вот финала у проекта нет и не может быть. И он, таким образом, является бесконечным. Ты работаешь с бесконечным временем. А по пути проект оставляет следы – конечные результаты. Но сам по себе продолжается. Что за этим стоит? Каковы законы этого труда? Как в нем могут участвовать люди? Что это вообще такое - проекты, запущенные в эволюцию, существенным образом определяющие процессуальную территорию?
А.С.: Просто пример какой-то, чтобы мы понимали.
Б.Ю.: Например, проект «Сад». Я его делал в 90-е годы. Это огромный проект. Основой его был «Вишневый сад» Чехова. Вот я набрал Мастерскую индивидуальной режиссуры. В то время я уже вышел из андеграунда, пережив трагические предчувствия, связанные с судьбой нашей родины. Я сделал спектакль «Октавия» по пьесе Сенеки, в котором бесконечно лилась кровь в 89 году. Нерон сжигает Рим, и тут же – эссе Троцкого о Ленине. Мы играли его в ЖЭКах, этот спектакль. С кучей народа из авангардной тусовки. Меня било это предчувствие – развал империи, кровь, ужас и всякая дрянь. Юра Хариков придумал совершенно потрясающую сценографию – он сделал перевернутую волчицу, с кремлевскими башнями в виде сосков. Она у нас должна была плавать по Москве реке… и эти башни там, и кровь сочилась, и дым шел. Ну, дорогой проект.
Мы играли в ЖЭКе, а там еще висели портреты политбюро. Мы бои гладиаторов делали, перформансы ритуальные с Катей Рыжиковой, авангардные моды показывали с Ирэн Бурмистровой, Саша Петлюра там впервые вылез из-под стула. Дуня Смирнова там вела докречи. Много всего другого там происходило, а в принципе трагическая история – Нерон убивает всю свою семью, сжигает Рим, да в придачу роль Ленина играл Никита Михайловский и Женя Чорба. А как вы знаете, в советское время за исполнение роли Ленина давали Народного артиста. И поэтому я считаю, что они народные артисты.
А.С.: «Сад» до сих пор продолжается?
Б.Ю.: А из него я вышел в 90-е годы. Этот чеховский текст. Мы сразу поняли, что будем делать его как миф об неуничтожимом саде. Когда мы наполнили этот текст мифологией, начались приключения. Я решил – зачем делать салонную драму, все уже понятно, давайте сыграем в такую игру: представим, что Чехов – Махатма – написал священный текст о том, что страна пережила десакрализацию, потому что все слова нужно было избавлять от ложной священности. Невозможно было говорить, слова были перехвачены совком, манипуляциями предыдущими 70 лет, и невозможно было ими пользоваться. Для того, чтобы избавиться от этого, требовались десакрализующие стратегии. Среди них – стеб, разного рода атаки и так далее.
Например, я десакрализовал комсомол проектом, который назывался «Мисс Комсомолка». Я в 1986 году предлагал им выбрать Мисс Комсомолку. Когда они на это согласились – комсомол стал распадаться. И там много такого было: был Ноль Объект, сочиненный нашими товарищами из Питера, новыми художниками из Клуба друзей Маяковского, Тимуром Новиковым и командой. Они делали Ноль Объект, а у нас возникла стратегия умножения на ноль. Вот, в частности, Мисс Комсомолка и бои белых с красными в честь столетия канадского хоккея, когда собиралась шпана, хулиганы с обочин Петербурга, и собиралась команда из центра и они – как по-русски сказать? – бились друг с другом. Большая драка на стадионе, в честь столетия канадского хоккея – умножение любого юбилея на ноль. Вот такие акции делали.
Или я был объектом подвижного эквилибра. Художники, наши старшие братья-диссиденты, были подчинены совковым ритуалам. Они собирались, худсовет выбирали – они же всю жизнь мечтали о бойне, и вот когда дорвались, стали совет выбирать: эта картина подходит, эта не подходит. Выбрали – развесили. И тут пришли мы: Тимур с Ноль Объектом (он не прошел худсовет, его закрывали, запрещали), а я совсем одурел, видимо, я просто поднял ногу и объявил, что я есть объект живого эквилибра. На меня бирку повесили «Подвижный эквилибр – Борис Юхананов». И я требовал, чтобы меня выставили, потому что были финны, которые меня купили и должны были вывести в Финляндию. В общем, я – купленный объект, и они не имеют права задержать меня на границе. Вокруг меня бегали старшие бородатые братья и требовали меня запретить, потому что я не прошел худсовет. Совок был крепок, он сидел в глубине сознания своими структурами, и его нужно было разбивать, от этого надо было освобождаться – выходить из-под власти безумных ложных корней.
Весь этот год я буду открывать архив. Это же все надо показывать, чтобы живым дышало – людьми и приключениями. Мы создали миф о Саде. Это был чистый проект, освобожденный от предыдущего времени. Не хотелось чернухи – точно. И сейчас ее не хочется, мне кажется, это запрещенные приемы – гнать на людей чернуху. Надо найти перспективу некатастрофическую.
А.С.: Мне кажется это так сложно сейчас.
Б.Ю.: Зачем столько усилий, денег и жизни многих людей – что подразумевает мое искусство – тратить на то, чтобы гнать чернуху? Зачем это делать? Я хочу делиться возможностью некатастрофического существования, и если брать в прицел катастрофу и трагическое переживание, все равно за ними нужно слышать изначальное преодоление, идущее от человека и творца. Опыт изучения некатастрофической территории жизни – проект «Сад». Что такое сад у Чехова? В нашем мифе – это область счастья; мы понимаем, что это комедия – там сказано, что сад вырубают, а он неуничтожим. Появляется история о неуничтожимом саде, который все время гибнет.
Дальше – садовые существа. Выйти за пределы антропологического захвата. Театр не обречен все время про человека рассказывать, когда он пуп земли и в центре стоит – ну что за тотальный нарциссизм! Надо же выйти, получить дистанцию к человеку, что-то разглядеть в самих себе. Вот такие были идеи, с которых началось исследование.
И 11 лет мы делали этот проект, и дальше мы, конечно, открыли визионерский опыт – территорию счастья. Садовые существа играли о том, что они все время умирают и воскресают. Сад тоже стал с нами играть. Это вообще ой-ой-ой. Ну, представьте, что Москва – сад. Она подумала-подумала и решила, что тоже хочет с нами играть в неуничтожимых существ – умирать и возрождаться. Вдруг она пошла трещинами, играет, что сейчас умрет, а мы-то все реально переживаем, нам кажется что все – кабздец настал, катастрофа. В самом конце мы узнаем, что она с нами играет, такая медведица, а мы ежики на ней живем, а она потом вдруг стала кататься по полу и кричать, что сейчас умрет. Многое нам может показаться в эту секунду, пока мы не знаем, что это игра.
А.С.: Проект продолжается сейчас в Электротеатре?
Б.Ю.: Нет, нет, нет. Этот проект продолжался долго, в нем было очень много приключений. Он позволил выйти людям из-под власти шкурного понимания профессии. Актер оказался художником, возникла ситуация, когда люди делали объекты.
А.С.: Там были профессиональные актеры?
Б.Ю.: Профессиональные и непрофессиональные – там были только режиссеры, потому что это Мастерская Индивидуальной Режиссуры. Люди, которые обучались режиссуре: театр, кино, телевидение. Уже тогда я понимал, как воспитать серьезных людей, способных зарабатывать деньги, продюсировать, имеющих сумасшедшее рисковое сознание, способных учиться. Образование – это, в первую очередь, воспитание в себе способности развиваться при помощи книг и из космоса, из разных источников. Это некая самостийность, способная вывести человека за пределы, выделенные ему тайной, судьбой и господом богом, индивидуацией. Вот это все надо воспитывать в людях, предоставить им опыт выяснения себя. Только такие проекты – эволюционные. Конечно, они когда-то кончатся, но не мы их прикончим. Они завершатся в этом времени и в этом пространстве по разным обстоятельствам. Но сами по себе они направлены в своем стремлении и намерении на бесконечность. Вереницы таких проектов определяет климат в культуре. Я думаю, в будущем будет все больше возникать таких проектов. Это искусство будущего, которое я называю «новым процессуальным искусством».
А.С.: То, что вы вкладываете в понятие Театр Полноты – отражает ли это понятие Электротеатра?
Б.Ю.: Он участвует в том, что я называю Театром Полноты. А аудитория понимает, о чем мы говорим – Театр Полноты? Я думаю – нет, каждый видит что- то свое, театр Фальстафа, где полненькие люди занимаются театром.
Коротко скажу: представьте предыдущую эпоху, совсем дальнюю, когда погибла предыдущая цивилизация. Священные книги описывают нам отзвуки этой гибели. Представьте, что на огромной горе остался некий ковчег -- театр от той цивилизации, до мистерий. Есть тайная полемика: театр произошел из мистерии, но мистерии принадлежит этому, нашему времени. А из того времени осталось то, что я называю Театром Полноты. Дальше он исчезает; еще не родилось новое время, только зарождается, а театр как бы исчезает. И начинается мистерия, которой он передал себя. И развивается искусство. Развивается до конца XIX века, когда начинаются процессы, предшествующие возвращению Театра Полноты. Сейчас он уже начал возвращаться, в частности, в идеях, о которых я говорил в связи с новой процессуальностью. Что происходит в конце XIX века? Рождается режиссура. Таинственная профессия. Из этой пещеры – влагалища рождения – выходит некое существо, сразу с бородкой, очень волевое. Вместо того, чтобы вякать-кукать-пукать, оно сразу начинает учить, всем тут руководить, и очень быстро входит в центр культуры.
Кино рождается в одно мгновение, с разными именами и сразу с шедеврами. А что происходит с остальным искусством? Рождается мистагог, особого рода управитель индивидуальных мистериальных процессов. Фигура мистагога еще в эпоху Полноты выражена, чтобы рулить театром, его обеспечивать. Это универсальная фигура – первое, что для нас важно здесь. А дальше что происходит? Что происходит со всеми видами искусства? В мистериальном обществе, переданном Театром Полноты, все виды искусства были связаны в некое единство. Такой образ единства, который нам еще не различить. А дальше несколько тысячелетий было употреблено на то, чтобы всем разойтись, дифференцироваться, разделиться максимально. К концу 19 века искусства отделились друг от друга, определили свои свойства, качества и отдельности – именно тогда возникает режиссер, призванный их объединить.
(в этот момент из дальнего зала Третьяковки слышится крик ребенка)
А.С.: Режиссер родился.
Б.Ю.: Младенец. И дальше он ждет. Чего? Он ждет, когда эти разделившиеся виды искусства начнут себя измельчать на элементы. Они должны себя измельчить, потому что они так разделились, что их соединить невозможно. Представьте, архангел, высокое звание, который должен это сделать, но он не может, ему неподвластно соединение разделившегося. Для того, чтобы соединить части, ему надо, чтобы процесс разделения изничтожил само это разделение. Вот такой парадокс. Эту функцию берут на себя анемичные души авангарда, начиная от футуристов.
Источником авангардной идеи являлись футуристы-итальянцы. Дальше их идеи мощно развили, русский авангард мощно их развил. Это нужно нам слышать, понимать и не важничать, потому что Маринетти и все это фашистское не имеет никакого значения. Важно другое. Ток, который прошел, в частности, через Маринетти, и через Баухауз, и через русский авангард. В них мы видим признак универсума, но при этом он очевидно очень далеко от нас располагается. Были специально созданы инструменты в культуре -- по измельчению и разделению видов искусств. Разделившиеся виды искусства нужно было размельчить до элементов, до неких молекул, в результате которых они опять соединились в процессе разрушения. Этот процесс и есть функция авангарда с точки зрения Театра Полноты. Он завершился к 30-м годам. А дальше начался постепенный процесс синтеза и работы в уже обнаруженном нами пространстве, по сути измельченном на элементы, из которых можно было бы складывать разные фигуры. Так стали возникать фильмические тексты. Одновременно философия в своем инструментарии, как Франкфуртская школа, так и школа постструктуралистская, например, французская школа, многими именами обеспечивали сознание, подготавливали сознание к сложной работе. Все человечество трудилось над замыслом возвращения и развитием новой цельности.
Театр по определению, по очевидным своим свойствам предназначен для синтеза. Конечно, были Вагнер, Скрябин, но это все еще предчувствие, это все было до возможности осуществления. Постмодернизм – это не вопиющее бессовестное манипулирование историей, это часть процесса, где человек добирается до виртуозного обращения с разными несопоставимыми элементами. То же самое -- направления творчества, связанные с художественными практиками. Объекты стали возникать, акции, стала разворачиваться перед нами нематериальная часть художественного дела. Снятие границ. И философия присутствия, ландшафтная. Вся история искусств 20 века, все опыты работают на то, о чем я говорю.
Театру прочили смерть, но он неожиданно выходит в лидирующее пространство во всем мире и начинает принимать на себя деятельность самых невероятных художников, которые не могли бы там оказаться. Наирадикальнейшие художники идут в театр. Кинематографисты используют театр. Театр оказывается без актера, без слов. Не как опыты, а как совершенно завершенная, конкурентоспособная мейнстримная часть. То же самое происходит с движением, с пластикой. Театр без проблем разворачивается по любому из этих маршрутов, и всегда при этом слышна начавшаяся, разворачивающаяся стремительно, невероятно интенсивно, новая ценность, новая Полнота. Сегодня даже государственный театр готов принять на себя эту миссию. Без важничанья стать неотъемлемой, разумной, правильно обустроенной, способствующей частью этого процесса.
Именно об этом я говорю, когда формирую программу Электротеатра.
А.С.: Я сейчас создаю понятную моему дизайнерскому уму точку отсчета. Правильно ли, что в начале 20-х годов, когда была «Победа над солнцем», когда композиторы, поэты, художники делали вместе экспериментальные постановки, когда они встретились, чтобы создавать новую сущность, когда все крутили пальцем у виска и говорили "вы сумасшедшие, это абсолютное безумие" – это было тем самым началом?
Б.Ю.: И пораньше (дадаисты, футуристы), и попозже. XX век – это всего лишь начало начала. Не надо думать, что все закончилось. Все только начинается. Просто у каждого процесса долгий период. Мы смотрим от начала, вот зрелость: уже делать нечего, все сделано. Но это начало начала – по сравнению с тем, что предстоит. Мы увидим, что находимся на территории бесконечного времени, как только поменяется структурация истории, поменяется структурация различения происходящих процессов, окажутся родственными процессы, которые сегодня не различимы даже, не могут быть сопоставимы рядом друг с другом. Какой-нибудь социалистический реализм окажется невероятно близок фундаменталистским мистическим поискам, восточного узора, понимаете? А опыты Крученых, которого можно обвинить во всем, что угодно (ну что, такой примитивный, вы посмотрите какой сложный Бродский, а Крученых что - "дыр-бул-щыл"), окажутся опытами, имеющими значение для любовного лепета будущих биороботов. И это окажется связанным с сингулярными процессами, предстоящими нам в конце 21 века. И биороботы будут гимн свой мычать "дыр-бул-щыл", без которого они настраиваться на художественную интуицию не смогут. Не знаю, как это все будет, но уверен, я уже это вижу, в проявлениях театра художественных, в реальных практиках: ой-ей-ей, история трещит по швам. Линеарная разверстка – и даже просто горизонтальная – трещит по швам. Топология истории оказывается иной. Это все предстоит обнаружить в культуре.
А.С.: Я хотела спросить про недавние события. Почему Электротеатр, почему электротеатр и Станиславский?
Б.Ю.: "Электро" – корень. Электро – понятно почему, кинотеатр. В 1915 году построили фешенебельный кинотеатр, назвали "Электротеатр Арс". Ну, Арс – запрещено, это пошлятина. А электротеатр –- прекрасное слово. Корень "электро" – это древнегреческий корень, свет светится в этом корне. Такой старый корень, а в нем все время слышится что-то новое, душа на него откликается. Говоришь "электротеатр" и все – "да, это что-то новое", хотя театр – очень старый. Старый корень работает, как и во всем. Диалектика старого и нового подвергается сегодня пересмотру. Это надо слышать, как невероятный мотор. Если мы говорим "староновое", например, староновая синагога в Праге, там рав Махараль создал Голема. Староновое – особого вида мотор, где новое со старым так сопряжены, работают друг на друга. Тогда это уже не просто старое, не просто новое, а это аккумулятор будущего. Поэтому я всегда внимателен к старому. И ответственен перед тем, как сопрягать его с новым. Иначе скажу – я внимателен к новому. И понимаю огромную ответственность перед новым, сопрягая его со старым. Тут проявляется мастерство проектировщика. А критерий? Чтоб мотор заработал. Чтоб оттуда пошел луч, деятельный, действенный, плодотворный луч.
А.С.: Про старое и новое в постановке «Синей птицы». Казалось бы, столько раз видели, такая всеми любимая история, а у вас все по-новому. Когда я пришла, я совершенно не ожидала этого, я плакала, смеялась как ребенок, у меня были эмоции все вместе. Эмоций было просто невероятное количество. Это тоже старое и новое, какая-то другая интерпретация.
Б.Ю.: Когда мне говорят "все любили всех", я тут же подозреваю, что никто не помнит, никто не любил. Я не знаю ничего, что все бы любили или ненавидели. Понятие "все" в современном мире – одно из самых таинственных. Мы окружены в самом языке невероятным количеством вирусов, и ими постоянно оперируем. Есть черта, после которой количество затребованных в нашей лексике вирусов может начать уничтожать наше сознание. Одна из проблем сегодняшнего времени – сопротивляться этому на территории языка. Задайте себе вопрос: почему я говорю так, а не иначе. Почему я это так произношу, а не иначе. Например, вы знаете, какой самый популярный режиссер сейчас в русскоязычном мире?
А.С.: Михалков?
Б.Ю.: Нет, Вуди Аллен. Это самый популярный человек. Его кормят все. Все же говорят "в идеале", "ви-де-але", "ву-де-ален", "а в идеале будет так", "а ву-де-ален будет так". В эту секунду Вуди Аллен получает приток сил.
"Я уже думал, умру. Что же меня прямо бьет ключом энергия". Начинает ездить по Европе, приезжает ставить. Мы просто кормим этого парня, хоть парень неплохой, кормим нашей лексикой. Он разрастается, вытянет все и везде, скоро богом станет, потому что "видеале-видеале-видеале". А еще 10-15 лет назад говорили "как бы так". Ну знаешь, как бы я хочу, вот как бы, как бы, то есть. Происходит невероятное перемещение цивилизаций, все думают – вот в России, там это, а на самом деле мы перемещаемся из мира "как бы" в мир "в идеале". Делайте свои выводы, друзья мои, что за этим стоит. Можно так проинтерпретировать это, что мало не покажется.
Возвращаясь к "Синей птице", она из этого же потока неразличимых явлений. Она была инспирирована посвященным человеком, лауреатом Нобелевской премии Морисом Метерлинком, удивительной душой. У него есть потрясающие книги, например, "Жизнь пчел", почитайте. Я такое узнал про себя. В античности были знаменитые трактаты о пчелах, от императоров до ученых, он, конечно, все это знает, он сам пчеловод, и такие вещи про них пишет. Или "Любовь цветов". Потрясающе. И вот Метерлинк написал таинственную сказку, которая покорила сердце нашего чудесного старика, тогда еще полного сил, молодого гения, красавца, Станиславского, и он захотел десятилетний юбилей МХАТа отметить постановкой "Синей Птицы". И как чуткий человек, подлинный художник, и тот самый младенец-старик, который участвовал в выходе Театра Полноты из пещеры, он тут же понял, как это делать. С огромным количеством аттракционов – по-другому реализовать мистический, мистериальный текст невозможно. И для своего времени сделал улетный дорогущий спектакль, полный невероятных изобретений и решений. Потрясающий. Блокбастер. А в это время рабочие с обочин шли в центр, развивалась демократическая партийная идеология, спектакли должны быть понятны пролетариату. А он делает невероятный аттракцион, дорогущий для своего времени спектакль. Попадая хрен знает куда, в противоположное место от ожидаемого, от МХАТа. Его обступают критики, его обступают всякие люди, говорят "вы что, надо демократические билеты, у кого хватит денег вам окупить это все". И этот спектакль оказывается последней свободной фантастической постановкой Станиславского в XX веке. Больше он не решится на такого рода запредельный полет фантазии. И, казалось бы, спектакль должен был погибнуть, но он сто лет прожил, единственный из всех спектаклей МХАТа. Он превратился в полную свою противоположность, но и мы с вами к концу жизни превратимся в полную свою противоположность, если допустим к себе всех тех, кто добрался до этого спектакля. Но, так или иначе, более ста лет живет спектакль. Оказался самым живучим. Вот вам парадоксы о невменяемости и о том, что на самом деле происходит в истории культуры. И со здравым смыслом на территории нашей жизни художественной.
Замысел «Синей птицы» мне пришел давно, я всегда понимал, что лучшими детьми будут старики – в них ребенок возвращается к самому себе. Он способен самого себя артикулировать и собой управлять. Учитывая анархистское настроение времени, в котором идет гражданская война между детьми и взрослыми, мне захотелось поучаствовать в этой войне на территории спектакля. И я предложил роль детей старикам. Добавил всю их жизнь, потому что там путешествие, и каждый из нас проживает свою жизнь, путешествуя за Синей птицей. А Синяя птица – это узел, из которого проистекают силы для счастья. Счастье имеет разные имена, дети отправляются в путешествие за ним и живут свою жизнь. Так мы соткали трехдневный спектакль.
"Синяя птица" играется очень редко. Моя рекомендация – три дня посмотреть и получить путешествие полностью. Но можно и по отдельности, ничего страшного.
А.С.: Про художников: вы работаете с одними и теми же людьми, с Хариковым, Лукьяновым, почему именно с ними? С людьми, которые делают вам и логотип, и фирменный стиль вашего театра, и декорации.
Б.Ю.: Я работаю еще с Ваней Кочкаревым.
А.С.: Почему именно с этим художником? Когда я попадаю к вам в театр, для меня это абсолютно другая реальность. Сад радости, что-то сказочное, чего я не могла бы себе в нормальной жизни представить. Я понимаю, что художники отражают ваше представление о том, какими должны быть декорации, какой должна быть сценография.
Б.Ю.: Я работаю с теми художниками, которые способны вырваться из-под власти мимесиса. Это жупел отражения, который зеркален по отражению к существующему миру. Мне не кажется, что удел художника находиться под властью мимесиса. Необходимость для художника создавать свой мир, умение это делать, и мастерство, связанное с этим, – это то, что меня увлекает в художниках, с которыми я работаю. Я счастлив, что мне встретились на пути такие потрясающие мастера как Юра Хариков, Степа Лукьянов, Настя Нефедова, Ваня Кочкарев. Удалось собрать людей, которые могут воплотить свои идеи в высочайшем качестве. Кроме эскиза, есть еще костюм, и надо, чтобы путь от эскиза к костюму был пройден. А за этим стоит куча мастерства, работы.
За что я ратую: с одной стороны, надо рисковать, надо обязательно двигаться в сторону свободы, надо быть свободнее, чем то, что думают про свободу в твое время. Надо быть свободным от утверждений про свободу, которыми наполнено твое время, иначе окажешься во власти отражающего образа жизни. Будешь просто отражать тюрьму и свободу, которые уже есть. Быть свободным непросто, это требует по-настоящему независимого сознания. Воспитание этого сознания – удел подлинного художника, который хочет быть мастером. С другой стороны, накопленную, выращенную, витально аранжированную уникальность надо превратить в мастерство, которое требуется при производстве любой, даже самой маленькой вещи. Если этим пренебрегать и в грязном помещении говорить о чистоте, все теряет смысл. Я не считаю, что авангард и мастерство противоположны друг другу, это части единого путешествия, которые вращаются как мотор, дополняя друг друга как планеты в едином космосе.
the Theatre of Falstaff, in which theatre is made by chubby people.
Let me say briefly: Imagine a previous era, very long ago, when a preceding civilization perished. The sacred books describe echoes of this death to us. Imagine there is an ark left on top a huge mountain – this is the theatre of that previous civilization, before the mysteries. There is a secret controversy: this theatre's origins were in the mysteries, but the mysteries belong to our era, now. What is left from the previous era is what I call the Theatre of Amplitude. Later it will disappear; the new era has not yet come into being, it's only beginning to be born, but theatre, it seems, disappears. That marks the beginning of the mystory to which it, theatre, gave itself over. And art begins to develop. It develops up to the end of the 19th century when new processes began. They are what preceded the return of the Theatre of Amplitude. Now it has already begun returning to us, in part, in the ideas about which I spoke in regards to the new processualism. What happened at the end of the 19th century? The art of directing was born. It's an enigmatic profession. From this cave – the vagina of birth – emerges a certain being, he already has stubble on his chin and he is very willful. Instead of goo-gooing and ga-gaaing, he immediately begins to teach and to control. He very quickly takes up a central place in culture.
Cinema is born in the blink of an eye, various names emerging immediately with masterpieces. What happens in other forms of art? The mystagogue is born, this is a very special leader of individual mysterial processes. In the era of Amplitude the figure of the mystagogue emerged in order to control theatre and to provide for it. This was a universal figure – the first, which is important to us at this moment. What happens next? What happens to all the forms of art? In a mysterial society which has been given over to the Theatre of Amplitude, all forms of art were interconnected as a single whole. It was a unity so tight that we cannot distinguish its parts. It took several thousands of years for all of them to diversify, become differentiated, and to separate to the maximum degree. By the end of the 19th century the various arts had grown apart from each other. They had defined their characteristics and their solitude. That is precisely when the director appeared. He was called upon to reunite them.
(At this moment a baby's cry is heard from a far corner of the Tretyakov Gallery.)
Salkova: A director has been born.
Yukhananov: An infant. And then he waits. For what? He waits for these art forms that have become divided up to begin breaking up into even smaller elements. They must be reduced to mere fragments for they had broken up to such an extent that they could no longer be put back together. Imagine the archangel, a high calling, who must do this. But he can't, he is incapable of uniting what has become differentiated. In order for him to unify the parts, the process of differentiation must destroy differentiation itself. That is the paradox. The anemic souls of the avant-garde, beginning with the Futurists, take this function on themselves.
The Italian Futurists were the source of the avant-garde idea. Subsequently, the Russian avant-garde developed their ideas in a powerful way. We need to hear that and understand that, not beat our breasts about it because Marinetti and all that Fascist stuff mean nothing at all. What's important is something else: the electric impulse which, in part, came through Marinetti and Bauhaus and the Russian avant-garde. In them we see the sign of the universal, although at the same time, it obviously remains a great distance from us. Special instruments were created in culture – to fragment and divide up the different art forms. They had to be split down to the finest elements, down to the molecules, as a result of which they once again reunited in this process of destruction. This process is the very function of the avant-garde from the point of view of the Theatre of Amplitude. The process was completed by the 1930s. After that a slow process of synthesis and work began in the territory we have already discovered. It was essentially fragmented down to the smallest elements, which, themselves, then began coming together in various forms. Thus did filmic texts arise. At the same time, philosophy, with all its tools, such as the Frankfurt School, and the poststructuralist school, the French school, and its many well-known names provided consciousness, prepared consciousness for the hard work ahead. All of mankind labored over the development and concept of returning this new wholeness.
By definition and by certain of its obvious qualities, theatre provides the ideal field for synthesis. Of course, there had been Wagner and Scriabin, but they were premonitions, that was before anything really could happen. Postmodernism is not a blatant, shameless manipulation of history, it is a part of the process whereby a person achieves virtuosity in working with various incompatible elements. It's the same thing with creative tendencies related to artistic practices. Objects and actions began to emerge, the intangible aspects of the artistic endeavor began unfolding before our eyes. Barriers came down. As well as the philosophy of presence, of the lay of the land. The whole history of art in the 20th century, all the experiments that were undertaken, act to support what I am talking about.
It was predicted that theatre woud die. But, unexpectedly, it assumed a leading position throughout the world and began embracing the work of the most incredible artists you can imagine. The most radical artists always gravitate to theatre. Filmmakers employ theatrical means. Theatre can be made without actors and without words. These aren't experiments, but are thoroughly accomplished, commercially-viable, mainstream endeavors. The same thing happens with movement and dance. Theatre easily turns down any one of these paths. It is always very sensitive to any new value, any new Amplitude that may arise, no matter how quickly or suddenly. Even state theatre these days is prepared to accept this mission. To become an integral, reasonable, properly equipped contributor to this process, without putting on any airs.
These are the things I talk about when I formulate the program of the Stanislavsky Electrotheatre.
Salkova: Let me imagine a starting point that is natural for a designer's mind like mine. Is it true that it all really started in the early '20s with the production of Victory Over the Sun; when composers, poets and artists collaborated to create experimental performances; when they joined together to create something entirely new; when everyone scratched their heads and said, "You are crazy, this is absolute madness"?
Yukhananov: It was both earlier (the Dadaists and Futurists) and later. The twentieth century was just the beginning of the beginning. Don't think it has all come to an end. We're only getting going. It's just that each process lasts a long time. We look at the beginning and say, “Oh, that's very mature, there's nothing more to do, it's all done.” But in relation to what is to come, that's just the beginning of the beginning. We see that we are located in a territory of endless time, as soon as the structure of history changes, the structure of other processes changes, too. Some of those processes which, today, we can't even compare to one another will, in the future, be almost indestinguishable. Socialist realism, for example, will be unbelievably close to fundamentalist, oriental mystical quests. Meanwhile, the experiments of Kruchyonykh, whom you can accuse of most anything you want (“he was so primitive! Brodsky was complex, but Kruchyonykh wrote things like 'dyr-byl-shchyl'”), will be recognized as important precendents for the pillow talk of future biorobots. This is all bound up in unique processes that we will face at the end of the 21st century. Biorobots will hum their hymn "dyr-bul-shchyl," wthout which they will be incapable of being tuned into creative intuition. I don't know how it's all going to happen, but I do not doubt it will, because I already see it in the works of theatre artists and in real-time practice. Oh, my, history will come apart at the seams. The collinear, and even the horizontal, will burst wide open. The topology of history will be entirely different. We have yet to discover this in the field of culture.
Salkova: I want to ask you about recent events. Why the Electrotheatre and why the Stanislavsky Electrotheatre?
Yukhananov: "Electro" is a root. You understand why “electro”
Александра Санькова, директор Московского музея дизайна: Мы в Третьяковке на Крымском Валу, и у нас сегодня первая дискуссия. Это серия дискуссий, посвященная авангарду и дизайну, которую Московский музей дизайна делает вместе с Третьяковской галерей. И не просто так мы сегодня находимся в этом зале: дискуссия будет проходить на фоне выставки ОБМОХУ 1921 года (ОБщество МОлодых ХУдожников, ранняя ступень русского конструктивизма – прим. ред.). Это был переломный момент авангарда, когда стала формироваться проектная культура, и первая рабочая группа конструктивистов заявила о своих теориях, о своих концепциях, когда дизайн стал более, чем искусством. Идут дискуссии – что такое дизайн и в чем разница между дизайном и искусством, как эти два понятия пересекаются, когда они размываются, когда грань становится более острой? Однако, дизайн – вещь достаточно прикладная. Художники называли себя проектировщиками, потому что не было понятия дизайна, они искали это слово, они говорили «мы – не художники!», но не смогли сформулировать название – как бы они хотели себя называть. Проектная культура дизайна формировалась в начале прошлого века, в 20-х годах, и поэтому здесь – место силы. Мы специально сделали эту дискуссию в экспозиции, а не в конференц-зале. Чтобы гости проходили по залам и видели работы художников в коллекции Третьяковской галереи – а здесь, действительно, богатейшее собрание авангарда, которое было передано сюда в 1920-х годах из расформированного музея живописной культуры. Когда Костаки эмигрировал, часть его коллекции дополнила Третьяковскую галерею, и сейчас здесь находится важнейшее собрание в России: Родченко, Татлин, Лисицкий, Клуцис, Стенберги, Суетин, Клус, Чашник.
Многие думают, что авангард – это нечто такое, что было и завершилось. Существует ли авангард в современной жизни или в театре?
Борис Юхананов: Вы спрашиваете, является ли авангард чем-то, что не может завершиться? Тогда вы уже намекаете на то, чем он является: неотъемлемой частью существования культуры. И ваш вопрос можно так сформулировать: является ли авангард неотъемлемой частью всех процессов культуры, какими бы они ни были? И тогда я могу сказать так: в творчестве любого художника есть этап, где он отрывается от самого себя, где он оказывается в некоем рискованном полете, путешествии, ситуации. Ключевое слово «риск», художнику надо преодолеть ответственности, воспитанные в нем обучением, традицией, чаемым мастерством, выйти за пределы этих ответственностей за счет усилия, разрыва, разрушения того, что расположилось в нем самом. И тогда он оказывается в области запрещенной, табуированной для него самого. В рискованной области, с точки зрения художественной и обычной жизни человека обреченной на неопределенность, рядом с которой располагается баловство души и сознания, стремящееся завоевать области, новые для самого человека и для культуры в целом (поскольку она не существует абстрактно, она существует в личностях, в их связях, отношениях). Тогда да, тогда я готов согласиться с тем, что авангард существует сейчас. Хотя само слово «авангард» и для меня лично, как и для истории культуры остается в области первой трети XX века и не распространяется дальше. Если так, как вы задаете вопрос, я ответил бы: авангард – это необходимая территория. Возможно какой-то художник сможет выдержать внутренний взрыв всех оснований своего творчества, выход на неопределенные территории – да еще и выбраться оттуда в дальнейшее развитие того, что накапливается внутри. Это прорыв, который открывает для человека новые области мышления и профессионального применения человека. Который может окончиться тем, что человеку не удастся выбраться, и он сгинет в окружении эскизов, идей, баловства и риска радикальности собственного путешествия. Он может под воздействием вдохновения убежать в болото, и вдохновения может не хватить, чтоб выбраться обратно на сушу. Авангард не может не сопровождаться риском. Чтобы вступить на его территорию, надо обрезать чувство самосохранения. Этому может помочь социальная инерция, переживание революционного вдохновения, или вдохновения отрицания, или вдохновения любви. Разные образы вдохновения сопровождают жизнь художника, но обратный путь – это путь, требующий других свойств сознания, души, судьбы.
А.С.: Я представляю себе две ситуации: режиссер, главный человек в театре, и актеры выполняют его волю. И вторая – актеры что-то привносят в постановку, влияют на ход спектакля. Каким образом это происходит у вас в театре?
Б.Ю.: Театр разный, понимаете. Если говорить конкретно обо мне и о воле... Вы знаете, в моей судьбе были большие периоды, когда я вообще не работал с актерами, и мне не хотелось. Я был разочарован в самой этой позиции «актер». Мне казалось, что это такая проститутка, которая в кино торгует физиономией, а в театре торгует душой. Я не хотел иметь дело с проституцией в области искусства. Я не был готов общаться лично с людьми, готовыми на все. У меня был экстремальный внутренний опыт, особенно в 80-ые годы, который требовал соавторства, а не подчинения или купли-продажи. Дело не в форме того, что я делаю: форму понимают как некие внешние вещи, я сейчас говорю о форме в античном смысле, как о внутренней структуре произведения. Но темы, чаемая форма, образ жизни, внутри которого создавались мои спектакли во второй половине 80-х годов, то есть андеграунд, ничем не защищенная территория, которая требовала ни столько мастерства, сколько смыслового братства и художественной свободы. И я работал с художниками, рок-музыкантами, со своими товарищами по параллельному кино, я работал с просто бездельниками, которым было интересно побаловаться театром, и мне они очень нравились, потому что в них было много дилетантского настроения и много неиспользованного дарования. Все это огромное количество людей, которые вместе со мной перемещалось в Питер, потом обратно в Москву, тусовалось, как это было свойственно, но при этом мы работали. Актерам приходилось выходить из-под самих себя, чтобы участвовать в этих приключениях. Это был сложный период для меня, никуда не денешься. Оставалась производственная необходимость, связанная с накоплением средств для спектакля, включая в себя ни столько деньги (тогда денег практически не было как образа сознания и действий), но необходимость делать костюмы, сценографию, сохранять спектакль, вести репетиции, осуществлять тренинги. И с этим огромным стадом свободных людей мы все это делали в Питере, называлось это «Театр Театр». Потом я понял, как создать нового типа строгость: художнику приходится идти путем индивидуации, как говорил Делез, и никуда мы от этого не денемся, но индивидуация предполагает ни только создание собственной лексики или образа – метода, в котором ты работаешь. Эта индивидуация, особенно на территории коллективного искусства, предполагает создание индивидуальной конституции. Приходится быть индивидуальным государством. Это имеет огромное значение для осуществления работы. Ты должен с людьми заново договориться; не было ничего подразумеваемого, инерционного, что можно забрать из другой сферы и применить в области театра, особенно того, который в начале 90-х складывался на территории моей работы в Мастерской Индивидуальной Режиссуры. Я тратил много времени на социально-политический акт в отдельно взятой компании. Я создавал вместе со своими учениками и друзьями конституцию, которая оказывается необходимым образом того проекта, который ты делаешь. На самом деле, в нашем художественном труде, если речь идет больше чем о двух человеках, приходится каждый раз заново создавать эту конституцию. Различение проблематики, умение с ней обратиться, включив ее в художественную деятельность, соблюдение её и развитие внутри нее художественной деятельности – неотъемлемая часть труда художника, связанная с процессуальным искусством.
Когда ты приходишь в театр, то получаешь в наследство от государства непродуктивную инерционную систему отношений. Ты имеешь опыт и различаешь эту конституциативную проблему – в частности, она упирается в житейские вещи, в представления людей о самих себе, об образе жизни, об укладе, который должен обеспечить труд. Ты должен это заново перебрать – выговорить, найти возможность перестроить работу так, чтобы сохранить образ жизни людей, невинных по отношению к современному искусству, учитывая глубину, на которой современное искусство существует. И здесь нельзя обратиться к батюшке или к дядюшке и попросить их помочь, или попросить их не мешать, потому что, по большому счету, они не могут ни помочь, ни помешать. Все это дело самих людей, которые заваривают, собираются вместе и делают, и осуществляют, имея художественные намерения, ища путь их воплощения. Дело это серьезное, требующее грамотности, чуткости, художественной антикварности и времени. Поэтому говорить о том, что какая-то воля говорит актеру «делай!», а тот подчиняется... Нет, так не происходит.
А.С.: Как вы двигались от одного проекта к другому? Сейчас у вас есть цельная структура, урегулированная жизнь, а раньше, когда вы делали свои проекты или переходили от одного проекта к другому, – у вас все это было интуитивно? Вы делали это в постоянном поиске или эксперименте? Была какая-то глобальная финальная цель, к которой вы двигались?
Б.Ю.: Ни то, ни другое. Интуитивно я вообще не работаю. Я иначе существую. Интуиция – это что-то, чем ты не можешь управлять. Это первое, что про нее нужно понять. Интуиция – это свет, голос, постоянный фон, который звучит в любом художнике. Надо научиться слышать интуицию. Управлять ей нельзя. Она, как и совесть, не поддается манипуляции. Это обратная сторона совести – художественная интуиция. Поэтому ты слышишь себя интуитивно. Так же точно, как и рациональная сторона. Художник не может без этой стороны. Но и рациональная – это космос, понимаете? Рациональным способом в тебе возникают не только образы, но и идеи, и намерения тоже рациональный образом оказываются в тебе. А ведь стремление или желание… их источником является намерение. Работа с намерениями – это работа с тем, что произошло из интуитивного и рационального. Только об этой работе можно говорить, как о методе. В процентных отношениях – рациональное точно меньше половины занимает.
Моя профессия связана с тем, что я называю «новым процессуальным искусством». Это режиссура, но в другом понимании. Она включает в себя опыт работы новыми мистериальными структурами, опыт работы с проектами, которые ты запускаешь в эволюцию, они развиваются, а ты должен эту эволюцию поддерживать. Опыт работы с тем, что я называю индуктивным методом развития. Можно себе представить противоположный путь: ты делаешь проект, ты описываешь начало, описываешь его результат, цель, ты структурируешь путь осуществления ее, считаешь, думаешь, фантазируешь. Естественно, я в этой области работаю и кое-что понимаю про это. Но есть и другой путь, который открылся мне в конце 80-х годов» (в частности, благодаря моим театральным исследованиям) – «новое процессуальное искусство. Это работа с проектом, который ты запускаешь в эволюцию и точно понимаешь точку его начала. Когда-то мы встретились и сказали «поехали», а вот финала у проекта нет и не может быть. И он, таким образом, является бесконечным. Ты работаешь с бесконечным временем. А по пути проект оставляет следы – конечные результаты. Но сам по себе продолжается. Что за этим стоит? Каковы законы этого труда? Как в нем могут участвовать люди? Что это вообще такое - проекты, запущенные в эволюцию, существенным образом определяющие процессуальную территорию?
А.С.: Просто пример какой-то, чтобы мы понимали.
Б.Ю.: Например, проект «Сад». Я его делал в 90-е годы. Это огромный проект. Основой его был «Вишневый сад» Чехова. Вот я набрал Мастерскую индивидуальной режиссуры. В то время я уже вышел из андеграунда, пережив трагические предчувствия, связанные с судьбой нашей родины. Я сделал спектакль «Октавия» по пьесе Сенеки, в котором бесконечно лилась кровь в 89 году. Нерон сжигает Рим, и тут же – эссе Троцкого о Ленине. Мы играли его в ЖЭКах, этот спектакль. С кучей народа из авангардной тусовки. Меня било это предчувствие – развал империи, кровь, ужас и всякая дрянь. Юра Хариков придумал совершенно потрясающую сценографию – он сделал перевернутую волчицу, с кремлевскими башнями в виде сосков. Она у нас должна была плавать по Москве реке… и эти башни там, и кровь сочилась, и дым шел. Ну, дорогой проект.
Мы играли в ЖЭКе, а там еще висели портреты политбюро. Мы бои гладиаторов делали, перформансы ритуальные с Катей Рыжиковой, авангардные моды показывали с Ирэн Бурмистровой, Саша Петлюра там впервые вылез из-под стула. Дуня Смирнова там вела докречи. Много всего другого там происходило, а в принципе трагическая история – Нерон убивает всю свою семью, сжигает Рим, да в придачу роль Ленина играл Никита Михайловский и Женя Чорба. А как вы знаете, в советское время за исполнение роли Ленина давали Народного артиста. И поэтому я считаю, что они народные артисты.
А.С.: «Сад» до сих пор продолжается?
Б.Ю.: А из него я вышел в 90-е годы. Этот чеховский текст. Мы сразу поняли, что будем делать его как миф об неуничтожимом саде. Когда мы наполнили этот текст мифологией, начались приключения. Я решил – зачем делать салонную драму, все уже понятно, давайте сыграем в такую игру: представим, что Чехов – Махатма – написал священный текст о том, что страна пережила десакрализацию, потому что все слова нужно было избавлять от ложной священности. Невозможно было говорить, слова были перехвачены совком, манипуляциями предыдущими 70 лет, и невозможно было ими пользоваться. Для того, чтобы избавиться от этого, требовались десакрализующие стратегии. Среди них– стеб, разного рода атаки и так далее.
Например, я десакрализовал комсомол проектом, который назывался «Мисс Комсомолка». Я в 1986 году предлагал им выбрать Мисс Комсомолку. Когда они на это согласились – комсомол стал распадаться. И там много такого было: был Ноль Объект, сочиненный нашими товарищами из Питера, новыми художниками из Клуба друзей Маяковского, Тимуром Новиковым и командой. Они делали Ноль Объект, а у нас возникла стратегия умножения на ноль. Вот, в частности, Мисс Комсомолка и бои белых с красными в честь столетия канадского хоккея, когда собиралась шпана, хулиганы с обочин Петербурга, и собиралась команда из центра и они – как по-русски сказать? – бились друг с другом. Большая драка на стадионе, в честь столетия канадского хоккея – умножение любого юбилея на ноль. Вот такие акции делали.
Или я был объектом подвижного эквилибра. Художники, наши старшие братья-диссиденты, были подчинены совковым ритуалам. Они собирались, худсовет выбирали – они же всю жизнь мечтали о бойне, и вот когда дорвались, стали совет выбирать: эта картина подходит, эта не подходит. Выбрали – развесили. И тут пришли мы: Тимур с Ноль Объектом (он не прошел худсовет, его закрывали, запрещали), а я совсем одурел, видимо, я просто поднял ногу и объявил, что я есть объект живого эквилибра. На меня бирку повесили «Подвижный эквилибр – Борис Юхананов». И я требовал, чтобы меня выставили, потому что были финны, которые меня купили и должны были вывести в Финляндию. В общем, я – купленный объект, и они не имеют права задержать меня на границе. Вокруг меня бегали старшие бородатые братья и требовали меня запретить, потому что я не прошел худсовет. Совок был крепок, он сидел в глубине сознания своими структурами, и его нужно было разбивать, от этого надо было освобождаться – выходить из-под власти безумных ложных корней.
Весь этот год я буду открывать архив. Это же все надо показывать, чтобы живым дышало – людьми и приключениями. Мы создали миф о Саде. Это был чистый проект, освобожденный от предыдущего времени. Не хотелось чернухи – точно. И сейчас ее не хочется, мне кажется, это запрещенные приемы – гнать на людей чернуху. Надо найти перспективу некатастрофическую.
А.С.: Мне кажется это так сложно сейчас.
Б.Ю.: Зачем столько усилий, денег и жизни многих людей – что подразумевает мое искусство – тратить на то, чтобы гнать чернуху? Зачем это делать? Я хочу делиться возможностью некатастрофического существования, и если брать в прицел катастрофу и трагическое переживание, все равно за ними нужно слышать изначальное преодоление, идущее от человека и творца. Опыт изучения некатастрофической территории жизни – проект «Сад». Что такое сад у Чехова? В нашем мифе – это область счастья; мы понимаем, что это комедия – там сказано, что сад вырубают, а он неуничтожим. Появляется история о неуничтожимом саде, который все время гибнет.
Дальше – садовые существа. Выйти за пределы антропологического захвата. Театр не обречен все время про человека рассказывать, когда он пуп земли и в центре стоит – ну что за тотальный нарциссизм! Надо же выйти, получить дистанцию к человеку, что-то разглядеть в самих себе. Вот такие были идеи, с которых началось исследование.
И 11 лет мы делали этот проект, и дальше мы, конечно, открыли визионерский опыт – территорию счастья. Садовые существа играли о том, что они все время умирают и воскресают. Сад тоже стал с нами играть. Это вообще ой-ой-ой. Ну, представьте, что Москва – сад. Она подумала-подумала и решила, что тоже хочет с нами играть в неуничтожимых существ – умирать и возрождаться. Вдруг она пошла трещинами, играет, что сейчас умрет, а мы-то все реально переживаем, нам кажется что все – кабздец настал, катастрофа. В самом конце мы узнаем, что она с нами играет, такая медведица, а мы ежики на ней живем, а она потом вдруг стала кататься по полу и кричать, что сейчас умрет. Многое нам может показаться в эту секунду, пока мы не знаем, что это игра.
А.С.: Проект продолжается сейчас в Электротеатре?
Б.Ю.: Нет, нет, нет. Этот проект продолжался долго, в нем было очень много приключений. Он позволил выйти людям из-под власти шкурного понимания профессии. Актер оказался художником, возникла ситуация, когда люди делали объекты.
А.С.: Там были профессиональные актеры?
Б.Ю.: Профессиональные и непрофессиональные – там были только режиссеры, потому что это Мастерская Индивидуальной Режиссуры. Люди, которые обучались режиссуре: театр, кино, телевидение. Уже тогда я понимал, как воспитать серьезных людей, способных зарабатывать деньги, продюсировать, имеющих сумасшедшее рисковое сознание, способных учиться. Образование – это, в первую очередь, воспитание в себе способности развиваться при помощи книг и из космоса, из разных источников. Это некая самостийность, способная вывести человека за пределы, выделенные ему тайной, судьбой и господом богом, индивидуацией. Вот это все надо воспитывать в людях, предоставить им опыт выяснения себя. Только такие проекты – эволюционные. Конечно, они когда-то кончатся, но не мы их прикончим. Они завершатся в этом времени и в этом пространстве по разным обстоятельствам. Но сами по себе они направлены в своем стремлении и намерении на бесконечность. Вереницы таких проектов определяет климат в культуре. Я думаю, в будущем будет все больше возникать таких проектов. Это искусство будущего, которое я называю «новым процессуальным искусством».
А.С.: То, что вы вкладываете в понятие Театр Полноты – отражает ли это понятие Электротеатра?
Б.Ю.: Он участвует в том, что я называю Театром Полноты. А аудитория понимает, о чем мы говорим – Театр Полноты? Я думаю – нет, каждый видит что- то свое, театр Фальстафа, где полненькие люди занимаются театром.
Коротко скажу: представьте предыдущую эпоху, совсем дальнюю, когда погибла предыдущая цивилизация. Священные книги описывают нам отзвуки этой гибели. Представьте, что на огромной горе остался некий ковчег -- театр от той цивилизации, до мистерий. Есть тайная полемика: театр произошел из мистерии, но мистерии принадлежит этому, нашему времени. А из того времени осталось то, что я называю Театром Полноты. Дальше он исчезает; еще не родилось новое время, только зарождается, а театр как бы исчезает. И начинается мистерия, которой он передал себя. И развивается искусство. Развивается до конца XIX века, когда начинаются процессы, предшествующие возвращению Театра Полноты. Сейчас он уже начал возвращаться, в частности, в идеях, о которых я говорил в связи с новой процессуальностью. Что происходит в конце XIX века? Рождается режиссура. Таинственная профессия. Из этой пещеры – влагалища рождения – выходит некое существо, сразу с бородкой, очень волевое. Вместо того, чтобы вякать-кукать-пукать, оно сразу начинает учить, всем тут руководить, и очень быстро входит в центр культуры.
Кино рождается в одно мгновение, с разными именами и сразу с шедеврами. А что происходит с остальным искусством? Рождается мистагог, особого рода управитель индивидуальных мистериальных процессов. Фигура мистагога еще в эпоху Полноты выражена, чтобы рулить театром, его обеспечивать. Это универсальная фигура – первое, что для нас важно здесь. А дальше что происходит? Что происходит со всеми видами искусства? В мистериальном обществе, переданном Театром Полноты, все виды искусства были связаны в некое единство. Такой образ единства, который нам еще не различить. А дальше несколько тысячелетий было употреблено на то, чтобы всем разойтись, дифференцироваться, разделиться максимально. К концу 19 века искусства отделились друг от друга, определили свои свойства, качества и отдельности – именно тогда возникает режиссер, призванный их объединить.
(в этот момент из дальнего зала Третьяковки слышится крик ребенка)
А.С.: Режиссер родился.
Б.Ю.: Младенец. И дальше он ждет. Чего? Он ждет, когда эти разделившиеся виды искусства начнут себя измельчать на элементы. Они должны себя измельчить, потому что они так разделились, что их соединить невозможно. Представьте, архангел, высокое звание, который должен это сделать, но он не может, ему неподвластно соединение разделившегося. Для того, чтобы соединить части, ему надо, чтобы процесс разделения изничтожил само это разделение. Вот такой парадокс. Эту функцию берут на себя анемичные души авангарда, начиная от футуристов.
Источником авангардной идеи являлись футуристы-итальянцы. Дальше их идеи мощно развили, русский авангард мощно их развил. Это нужно нам слышать, понимать и не важничать, потому что Маринетти и все это фашистское не имеет никакого значения. Важно другое. Ток, который прошел, в частности, через Маринетти, и через Баухауз, и через русский авангард. В них мы видим признак универсума, но при этом он очевидно очень далеко от нас располагается. Были специально созданы инструменты в культуре -- по измельчению и разделению видов искусств. Разделившиеся виды искусства нужно было размельчить до элементов, до неких молекул, в результате которых они опять соединились в процессе разрушения. Этот процесс и есть функция авангарда с точки зрения Театра Полноты. Он завершился к 30-м годам. А дальше начался постепенный процесс синтеза и работы в уже обнаруженном нами пространстве, по сути измельченном на элементы, из которых можно было бы складывать разные фигуры. Так стали возникать фильмические тексты. Одновременно философия в своем инструментарии, как Франкфуртская школа, так и школа постструктуралистская, например, французская школа, многими именами обеспечивали сознание, подготавливали сознание к сложной работе. Все человечество трудилось над замыслом возвращения и развитием новой цельности.
Театр по определению, по очевидным своим свойствам предназначен для синтеза. Конечно, были Вагнер, Скрябин, но это все еще предчувствие, это все было до возможности осуществления. Постмодернизм – это не вопиющее бессовестное манипулирование историей, это часть процесса, где человек добирается до виртуозного обращения с разными несопоставимыми элементами. То же самое -- направления творчества, связанные с художественными практиками. Объекты стали возникать, акции, стала разворачиваться перед нами нематериальная часть художественного дела. Снятие границ. И философия присутствия, ландшафтная. Вся история искусств 20 века, все опыты работают на то, о чем я говорю.
Театру прочили смерть, но он неожиданно выходит в лидирующее пространство во всем мире и начинает принимать на себя деятельность самых невероятных художников, которые не могли бы там оказаться. Наирадикальнейшие художники идут в театр. Кинематографисты используют театр. Театр оказывается без актера, без слов. Не как опыты, а как совершенно завершенная, конкурентоспособная мейнстримная часть. То же самое происходит с движением, с пластикой. Театр без проблем разворачивается по любому из этих маршрутов, и всегда при этом слышна начавшаяся, разворачивающаяся стремительно, невероятно интенсивно, новая ценность, новая Полнота. Сегодня даже государственный театр готов принять на себя эту миссию. Без важничанья стать неотъемлемой, разумной, правильно обустроенной, способствующей частью этого процесса.
Именно об этом я говорю, когда формирую программу Электротеатра.
А.С.: Я сейчас создаю понятную моему дизайнерскому уму точку отсчета. Правильно ли, что в начале 20-х годов, когда была «Победа над солнцем», когда композиторы, поэты, художники делали вместе экспериментальные постановки, когда они встретились, чтобы создавать новую сущность, когда все крутили пальцем у виска и говорили "вы сумасшедшие, это абсолютное безумие" – это было тем самым началом?
Б.Ю.: И пораньше (дадаисты, футуристы), и попозже. XX век – это всего лишь начало начала. Не надо думать, что все закончилось. Все только начинается. Просто у каждого процесса долгий период. Мы смотрим от начала, вот зрелость: уже делать нечего, все сделано. Но это начало начала – по сравнению с тем, что предстоит. Мы увидим, что находимся на территории бесконечного времени, как только поменяется структурация истории, поменяется структурация различения происходящих процессов, окажутся родственными процессы, которые сегодня не различимы даже, не могут быть сопоставимы рядом друг с другом. Какой-нибудь социалистический реализм окажется невероятно близок фундаменталистским мистическим поискам, восточного узора, понимаете? А опыты Крученых, которого можно обвинить во всем, что угодно (ну что, такой примитивный, вы посмотрите какой сложный Бродский, а Крученых что - "дыр-бул-щыл"), окажутся опытами, имеющими значение для любовного лепета будущих биороботов. И это окажется связанным с сингулярными процессами, предстоящими нам в конце 21 века. И биороботы будут гимн свой мычать "дыр-бул-щыл", без которого они настраиваться на художественную интуицию не смогут. Не знаю, как это все будет, но уверен, я уже это вижу, в проявлениях театра художественных, в реальных практиках: ой-ей-ей, история трещит по швам. Линеарная разверстка – и даже просто горизонтальная – трещит по швам. Топология истории оказывается иной. Это все предстоит обнаружить в культуре.
А.С.: Я хотела спросить про недавние события. Почему Электротеатр, почему электротеатр и Станиславский?
Б.Ю.: "Электро" – корень. Электро – понятно почему, кинотеатр. В 1915 году построили фешенебельный кинотеатр, назвали "Электротеатр Арс". Ну, Арс – запрещено, это пошлятина. А электротеатр –- прекрасное слово. Корень "электро" – это древнегреческий корень, свет светится в этом корне. Такой старый корень, а в нем все время слышится что-то новое, душа на него откликается. Говоришь "электротеатр" и все – "да, это что-то новое", хотя театр – очень старый. Старый корень работает, как и во всем. Диалектика старого и нового подвергается сегодня пересмотру. Это надо слышать, как невероятный мотор. Если мы говорим "староновое", например, староновая синагога в Праге, там рав Махараль создал Голема. Староновое – особого вида мотор, где новое со старым так сопряжены, работают друг на друга. Тогда это уже не просто старое, не просто новое, а это аккумулятор будущего. Поэтому я всегда внимателен к старому. И ответственен перед тем, как сопрягать его с новым. Иначе скажу – я внимателен к новому. И понимаю огромную ответственность перед новым, сопрягая его со старым. Тут проявляется мастерство проектировщика. А критерий? Чтоб мотор заработал. Чтоб оттуда пошел луч, деятельный, действенный, плодотворный луч.
А.С.: Про старое и новое в постановке «Синей птицы». Казалось бы, столько раз видели, такая всеми любимая история, а у вас все по-новому. Когда я пришла, я совершенно не ожидала этого, я плакала, смеялась как ребенок, у меня были эмоции все вместе. Эмоций было просто невероятное количество. Это тоже старое и новое, какая-то другая интерпретация.
Б.Ю.: Когда мне говорят "все любили всех", я тут же подозреваю, что никто не помнит, никто не любил. Я не знаю ничего, что все бы любили или ненавидели. Понятие "все" в современном мире – одно из самых таинственных. Мы окружены в самом языке невероятным количеством вирусов, и ими постоянно оперируем. Есть черта, после которой количество затребованных в нашей лексике вирусов может начать уничтожать наше сознание. Одна из проблем сегодняшнего времени – сопротивляться этому на территории языка. Задайте себе вопрос: почему я говорю так, а не иначе. Почему я это так произношу, а не иначе. Например, вы знаете, какой самый популярный режиссер сейчас в русскоязычном мире?
А.С.: Михалков?
Б.Ю.: Нет, Вуди Аллен. Это самый популярный человек. Его кормят все. Все же говорят "в идеале", "ви-де-але", "ву-де-ален", "а в идеале будет так", "а ву-де-ален будет так". В эту секунду Вуди Аллен получает приток сил.
"Я уже думал, умру. Что же меня прямо бьет ключом энергия". Начинает ездить по Европе, приезжает ставить. Мы просто кормим этого парня, хоть парень неплохой, кормим нашей лексикой. Он разрастается, вытянет все и везде, скоро богом станет, потому что "видеале-видеале-видеале". А еще 10-15 лет назад говорили "как бы так". Ну знаешь, как бы я хочу, вот как бы, как бы, то есть. Происходит невероятное перемещение цивилизаций, все думают – вот в России, там это, а на самом деле мы перемещаемся из мира "как бы" в мир "в идеале". Делайте свои выводы, друзья мои, что за этим стоит. Можно так проинтерпретировать это, что мало не покажется.
Возвращаясь к "Синей птице", она из этого же потока неразличимых явлений. Она была инспирирована посвященным человеком, лауреатом Нобелевской премии Морисом Метерлинком, удивительной душой. У него есть потрясающие книги, например, "Жизнь пчел", почитайте. Я такое узнал про себя. В античности были знаменитые трактаты о пчелах, от императоров до ученых, он, конечно, все это знает, он сам пчеловод, и такие вещи про них пишет. Или "Любовь цветов". Потрясающе. И вот Метерлинк написал таинственную сказку, которая покорила сердце нашего чудесного старика, тогда еще полного сил, молодого гения, красавца, Станиславского, и он захотел десятилетний юбилей МХАТа отметить постановкой "Синей Птицы". И как чуткий человек, подлинный художник, и тот самый младенец-старик, который участвовал в выходе Театра Полноты из пещеры, он тут же понял, как это делать. С огромным количеством аттракционов – по-другому реализовать мистический, мистериальный текст невозможно. И для своего времени сделал улетный дорогущий спектакль, полный невероятных изобретений и решений. Потрясающий. Блокбастер. А в это время рабочие с обочин шли в центр, развивалась демократическая партийная идеология, спектакли должны быть понятны пролетариату. А он делает невероятный аттракцион, дорогущий для своего времени спектакль. Попадая хрен знает куда, в противоположное место от ожидаемого, от МХАТа. Его обступают критики, его обступают всякие люди, говорят "вы что, надо демократические билеты, у кого хватит денег вам окупить это все". И этот спектакль оказывается последней свободной фантастической постановкой Станиславского в XX веке. Больше он не решится на такого рода запредельный полет фантазии. И, казалось бы, спектакль должен был погибнуть, но он сто лет прожил, единственный из всех спектаклей МХАТа. Он превратился в полную свою противоположность, но и мы с вами к концу жизни превратимся в полную свою противоположность, если допустим к себе всех тех, кто добрался до этого спектакля. Но, так или иначе, более ста лет живет спектакль. Оказался самым живучим. Вот вам парадоксы о невменяемости и о том, что на самом деле происходит в истории культуры. И со здравым смыслом на территории нашей жизни художественной.
Замысел «Синей птицы» мне пришел давно, я всегда понимал, что лучшими детьми будут старики – в них ребенок возвращается к самому себе. Он способен самого себя артикулировать и собой управлять. Учитывая анархистское настроение времени, в котором идет гражданская война между детьми и взрослыми, мне захотелось поучаствовать в этой войне на территории спектакля. И я предложил роль детей старикам. Добавил всю их жизнь, потому что там путешествие, и каждый из нас проживает свою жизнь, путешествуя за Синей птицей. А Синяя птица – это узел, из которого проистекают силы для счастья. Счастье имеет разные имена, дети отправляются в путешествие за ним и живут свою жизнь. Так мы соткали трехдневный спектакль.
"Синяя птица" играется очень редко. Моя рекомендация – три дня посмотреть и получить путешествие полностью. Но можно и по отдельности, ничего страшного.
А.С.: Про художников: вы работаете с одними и теми же людьми, с Хариковым, Лукьяновым, почему именно с ними? С людьми, которые делают вам и логотип, и фирменный стиль вашего театра, и декорации.
Б.Ю.: Я работаю еще с Ваней Кочкаревым.
А.С.: Почему именно с этим художником? Когда я попадаю к вам в театр, для меня это абсолютно другая реальность. Сад радости, что-то сказочное, чего я не могла бы себе в нормальной жизни представить. Я понимаю, что художники отражают ваше представление о том, какими должны быть декорации, какой должна быть сценография.
Б.Ю.: Я работаю с теми художниками, которые способны вырваться из-под власти мимесиса. Это жупел отражения, который зеркален по отражению к существующему миру. Мне не кажется, что удел художника находиться под властью мимесиса. Необходимость для художника создавать свой мир, умение это делать, и мастерство, связанное с этим, – это то, что меня увлекает в художниках, с которыми я работаю. Я счастлив, что мне встретились на пути такие потрясающие мастера как Юра Хариков, Степа Лукьянов, Настя Нефедова, Ваня Кочкарев. Удалось собрать людей, которые могут воплотить свои идеи в высочайшем качестве. Кроме эскиза, есть еще костюм, и надо, чтобы путь от эскиза к костюму был пройден. А за этим стоит куча мастерства, работы.
За что я ратую: с одной стороны, надо рисковать, надо обязательно двигаться в сторону свободы, надо быть свободнее, чем то, что думают про свободу в твое время. Надо быть свободным от утверждений про свободу, которыми наполнено твое время, иначе окажешься во власти отражающего образа жизни. Будешь просто отражать тюрьму и свободу, которые уже есть. Быть свободным непросто, это требует по-настоящему независимого сознания. Воспитание этого сознания – удел подлинного художника, который хочет быть мастером. С другой стороны, накопленную, выращенную, витально аранжированную уникальность надо превратить в мастерство, которое требуется при производстве любой, даже самой маленькой вещи. Если этим пренебрегать и в грязном помещении говорить о чистоте, все теряет смысл. Я не считаю, что авангард и мастерство противоположны друг другу, это части единого путешествия, которые вращаются как мотор, дополняя друг друга как планеты в едином космосе.
because of the cinema. In 1915 a luxurious movie theater called the Ars Electrotheatre was built in Moscow. We couldn't use “Ars,” that would have been too vulgar. But “electrotheatre” is a wonderful word. The root “electro” goes back to ancient Greek. Light shines in this root. It's very old yet something new resounds in it all the time. The soul responds to it. You say “electrotheatre” and everyone responds, “Yes. That's something new.” Although the theatre itself is very old. The old root works, as it does in everything. The dialectic of old and new is reconsidered today. It must be heard as an incredible motor. We can say "old-new," as in the Old-New Synagogue in Prague, where Rabbi Maharal created the Golem. The "old-new" is a particular kind of motor in which the old and new are harnessed together to work in tandem. That's not simply old, and it's not simply new, it is a battery for the future. That's why I'm always very attentive to what is old. And I take responsibility when harnessing it to the new. Another way of putting this is to say I'm very attentive to the new. I understand the great responsibility that we carry before the new when we harness it to the old. This is where the mastery of design comes in. What are the criteria? You want the motor to work. You want a beam of light to come of it, one that is active and productive.
Salkova: Your production of The Blue Bird is about the old and the new. You think you've seen it a million times, everybody knows it, the same old popular story. But somehow you did this in a new way. When I attended the show I suddenly and unexpectedly cried and laughed – I had all the emotions at once. I was overwhelmed by emotions. That's also new and old, some different kind of interpretation.
Yukhananov: When people say, "everybody loved everyone," I always seriously suspect that people simply don't remember that nobody loved anything. I don't know of anything that everyone would love or hate. The concept of “everyone” in the contemporary world is one of the most enigmatic. We are surrounded in language itself by an incredible number of viruses that we employ constantly. There is a limit to the number of popular viruses in the language we use, which, once it has been exceeded, may begin to destroy our consciousness. One of the tasks we have in our day is to counteract this in the territory of language. Ask yourself the question, why do I speak the way I speak, and not in some other way? Why do I have one pronounciation and not another? These days everybody says, "ideally"; "in the ideal." Ten, 15 years ago the phrase was “sort of.” “You know, I sort of want to, but then, sort of, I really don’t.” Incredible permutations of civilizations occur. Everyone thinks one thing is happening in Russia, but in fact we simply mutate from the world of “sort of” to the world of “in the ideal.” Draw your own conclusions about what stands behind that, friends. If you want to analyze that, it may throw a fright into you.
But let me come back to The Blue Bird. This is one of those indestignuishable phenomena. It was inspired by a true initiate, a truly soulful man, the Nobel Prize winner Maurice Maeterlinck. He has some stunning books, The Life of the Bee, for example. Read it. I learned a lot about myself. In antiquity there were famous treatises about bees written by everyone from emperors to scholars. He knew all that, of course, he was beekeeper himself. He wrote amazing things about them. Or The Intelligence of Flowers. Stunning. So Maeterlinck wrote this enigmatic fairy tale which won the heart of our marvelous old man, who, at that time was still young and full of energy. I mean, of course, our handsome, beloved Stanislavsky. He decided to mark the 10th anniversary of the Moscow Art Theatre with a production of The Blue Bird. As a sensitive person and a true artist, as that old-young man who participated in the emergence of the Theatre of Amplitude from its dark cave, he understood exactly how it needed to be done – with an abundance of tricks and attractions. There is no other way to bring a mystical, mysterial text to life. The production he mounted was, for his era, astonishing and expensive and filled with all kinds of inventions and tricks. Spectacular. A blockbuster. At the very time that workers were coming to the city center from the fringes and a new party-based, democratic ideology was being formed, theatre was expected to be accessible to the proletariat. And Stanislavsky created this incredible, expensive attraction, that was absolutely nothing like the Moscow Art Theatre; it was quite the opposite. Critics ate him alive, everybody did. They said, "What are you doing? We need cheap, democratically-priced tickets. We'll never recoup expenses on this!" This was Stanislavsky's last freely fantastic production of the 20th century. He never took on such an extreme flight of fancy again. That show should have perished, but it lived 100 years, the only Moscow Art Theatre show to do that. It degenerated into a parody of itself, but by the end of our lives you and I would also turn into our own opposites if the same people who laid their hands on that show laid their hands on us. Be that as it may, that show survived for over 100 years. It's a true survivor. How's that for the paradoxes of irresponsibility and about what happens, in fact, in the history of culture? And what happens to common sense in the territory of our artistic life?
I had the idea to do The Blue Bird long ago. I always realized that the best children would be old people. The child in them returns to itself. It is capable of articulating and controlling itself. Considering the anarchistic mood of the time, in which a civil war is going on between children and old people, I decided to participate in that war in the territory of a theatre production. I offered the role of children to old actors. We added the stories of their own lives, because that becomes a journey, and every one of us lives our life in search of the blue bird. The blue bird is that knot from which flow the powers of happiness. Happiness has various names. The children set out in search of it and, meanwhile, they live their lives. That's how we put together a show that lasts three days.
The Blue Bird does not play often. I recommend seeing all three days in order to enjoy the full journey. But you can also watch the separate parts. That's fine, too.
Salkova: In regards to designers: You work with the same people, with Yury Kharikov, Stepan Lukyanov. Why them? Why with people who create your theatre's logo and brand style, and also design your productions?
Yukhananov: I also work with Vanya Kochkaryov.
Salkova: Why with this particular artist? I enter a complete other reality when I come to your theatre. It's an orchard of joy, something fairy-tale-like, that I couldn't have imagined under normal circumstances. I understand that artists reflect your impression of what the decoration, the scenography, should be.
Yukhananov: I work with artists who are capable of freeing themselves of the power of mimesis, the attempt to imitate life in art, this bugaboo of imitation which is mirror-like in its reflection of the surrounding world. I don't think it's the artist's fate to remain under the spell of mimesis. The need of an artist to create his own world, the ability to do that, as well as the skill that is connected to that – this is what attracts me in the artists I work with. I am fortunate to have met along my way such fantastic masters as Yury Kharikov, Stepan Lukyanov, Nastasia Nefedova and Vanya Kochkaryov. I was able to gather people who are able to implement their ideas in very high quality. Beyond the sketches you need to have real costumes. You have to be able to traverse the road from sketch to costume. A tremendous amount of skill and work goes into that.
What do I advocate? On one hand, you must take risks, you must move toward freedom, you must be freer than whatever freedom is considered to be in your era. You must be free from the claims about freedom which are dominant in your era, or you will fall into the trap of reflecting lifestyles. You will simply reflect the prison and the freedom that already exist. It is not easy to be free. It requires a truly independent consciousness. Cultivating this awareness is the destiny of the true artist, one who wants to be a master. On the other hand, you must be able to transform what is accumulated, cultivated, and uniquely arranged into a skill that is required in the production of anything, no matter how minor. If you neglect this and speak of cleanliness in a dirty room, everything loses meaning. I do not think that the avant-garde and craftsmanship are opposites, they are parts of a single journey, they rotate as a motor does, complementing each other like planets in a single space.