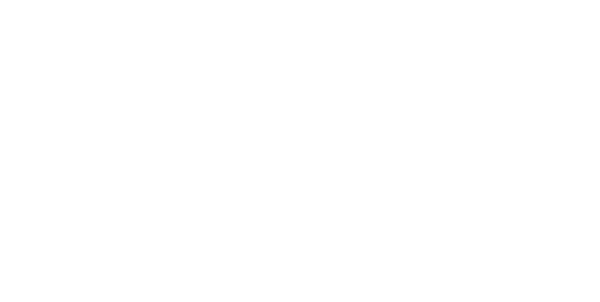Борис Юхананов: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня очень сокровенное, важное событие. В нашей студии прелестная, прекрасная, замечательная, великая гостья – Алла Сергеевна Демидова. Конечно же, вы знаете гениальную, выдающуюся актрису, личность, вышедшую за пределы какого-либо вида искусств и, как звезда, сияющую в просторах нашей отечественной культуры. Я впервые встречаюсь для разговора с Аллой Сергеевной. Тем интересней и существенней для меня эта встреча. Здравствуйте, Алла Сергеевна.
Алла Демидова: Здравствуйте, здравствуйте!
БЮ: Конечно, существует масса возможностей отправиться по дороге разговора, диалога. Сам по себе сегодня диалог в культуре — дело непростое. Не просто в культуре, я имею в виду не просто радиокультуру, а вообще в человеческом общении. Что-то случилось с диалогом. Он перехвачен разнообразием коммуникаций, то, что принято называть «новые и разные медиа», и само по себе общение сузилось до какого-то очень небольшого количества родных людей, да и с ними подчас общение наполнено особого рода прагматикой, экзистенциальной, какого-то еще характера. С кем общаться? И как общаться? Что Вы вообще про это думаете, как это общение существует в Вашей жизни?
АД: Вы знаете, я с Вами и согласна, и нет. Согласна, конечно: общение между людьми перестало существовать. Да. Но диалог остался. Все равно я с кем-то всегда разговариваю. Не я имярек, а вообще кто-то. Сижу ли я за компьютером — у меня диалог с кем-то, читаю ли я книжку — у меня диалог с этим писателем, смотрю ли я спектакль — у меня диалог и очень серьезный — что-то мне нравится, чему-то я возражаю и так далее. Поэтому он перешел в какую-то другую ипостась, этот диалог. Но с Вами согласна: вот такой словесный диалог, который между нами сейчас происходит, он, конечно, в основном в монологе.
БЮ: Есть такая игра сквош, когда человек с ракеткой, с мячиком специальным бьет в стенку. Когда я впервые с этим встретился, в Берлине, еще в конце 80-х, я был потрясен. Мне казалось: как странно, есть же бадминтон, настольный теннис, большой теннис. Там все-таки ты, посылая мяч через сетку, получаешь обратно удар. И в этом смысле идет обмен, происходит развитие игры. А здесь уже в конце 80-х годов внутри европейской цивилизации оказалось очень модной и существенной для множества горожан вот эта самая игра — бить мячиком в стенку.
АД: Вы знаете, этот сквош ведь недаром возник: это отработка техники, чтобы потом уйти в большой теннис.
БЮ: Вначале — да.
АД: Поэтому, может быть, мы как раз сейчас, в преддверии своих монологов, внутренних диалогов с кем-то, в преддверии того, что будет накопление, потому что в конце концов все сказано. Вы знаете, все сказано везде: в литературе, в театре, в музыке. Поэтому идет атония, идет разрушение, идет деконструкция в театре, форм в живописи и так далее. Идет разрушение, но на этом разрушении, может быть, потом что-то такое и возникнет.
БЮ: Знаете, про сквош еще два слова: возникнув как тренинг, рассчитанный на обратную связь, он оказался самодостаточным. Это меня и поразило. Он оказался чем-то, что из стадиальности перешло в заключительную стадию. Он оказался модным и существенным своим свойством: я в одиночестве бью мячиком в стенку, и мне этого достаточно, без каких-либо перспектив дальнейшей встречи с большой игрой.
АД: Ну это Вы заключили для того, чтобы подвести и поставить точку в Вашей мысли, в общем оригинальной и верной.
БЮ: Нет, я думаю, что здесь спрятано, возможно, желание — даже диалог, который по природе своей не может состояться, тем более в театре, в игре, без партнера — найти возможность, оставшись в формате симулякра, то есть как бы диалога, избавиться от партнера, избавиться от другого. Это стремление цивилизации, вернее, невозможность цивилизации выйти на встречу с другим сегодня. Это мне очень интересно, я бы хотел на этом остановиться.
АД: Это вообще, конечно, тема для размышления. Вот, например, мы как-то разговаривали с одним философом, он преподает в университете, встречается с молодыми, и вот он меня спрашивает: —Вы тоже ведь со студентами? —Да, иногда. Он говорит: "Сейчас молодые, кого ни спрошу, никогда не говорят слово «люблю»". Я тоже среди молодых, когда общаюсь, все время спрашиваю: "Когда-нибудь говорили слово «люблю»?" — никто не говорил. И я подумала, это все очень правильно. Например, раньше мы знали, что ревность — это «Отелло», любовь — «Ромео и Джульетта» — все такие ясные чувства, они игрались на сцене. Но недаром же возник Хайнер Мюллер, который из «Гамлета» делал «Гамлет-машину», из «Медеи» — «Медею: материал», из «Опасных связей» Шодерло де Лакло — «Квартет» и так далее. То есть он разрушал чувства. У него любовь смешана с ненавистью, ревность — с детским доверием. Я думаю, что сегодняшние чувства тоже не локальные у современного человека, тем более — городского. А слово — все-таки оно грубое выражение мысли. Недаром Тютчев тоже об этом писал, что выраженное есть ложь. Поэтому лучше помолчим, достоверное понимание. И, например, я тоже думала о том, почему заполняются сейчас залы, когда читают поэзию. Читают все плохо, но залы переполнены. Потому что это тайная жизнь поэзии, когда за словами что-то другое. Они к этому и тянутся. Это еще не самовыразилось, но театр, например, это уже ищет: на стыке нескольких чувств играть современного человека. Недаром Вы это все заметили.
БЮ: Спасибо. Очень интересно: это ощущение…
АД: Нелокальности чувств. Значит, нет ясности мысли, значит, нет ясности слова. Поэтому, чтобы вступить в диалог, надо пуд соли съесть или очень хорошо знать человека, чтобы понимать, что за его словами что-то есть другое. Вы знаете, мы с мужем прожили больше 55 лет, в общем долго и общались уже на уровне знаков и игры. Потом я поняла, что это не только мы. Например, Блок с Любовью Дмитриевной: они играли в зверей постоянно именно потому, что Блок это очень хорошо понимал, что слово высказанное должно быть адекватно чувству, а чувство, оно нелокальное. Вот почему Блок до сих пор современен — у него нет локальных чувств, одно наслаивается на другое. Поэтому перешли в игру. Вообще игра — это хорошо. Я помню, по-моему, у Шопенгауэра есть очень хорошая фраза: «Ты не человек, если ты не играешь». То есть обязательно нужно немножко на себя смотреть со стороны, в зеркало.
БЮ: То есть в особом, глубинном, исполненным огромного неизвестного нам плода, молчании, которое на нас насылает настоящее, заваривается новая цивилизация диалога, общения, новый образ жизни, и чувств, и игр. Это то, что происходит прямо сейчас во времени. Вы так это слышите?
АД: Ну конечно. И в театре недаром же мы ценим так актеров, которые умеют молчать на сцене. Их очень мало. Вообще молчать на сцене очень трудно. Вот, моя любимая актриса Изабель Юппер, она умеет молчать. Уж как она молчит! Я не знаю, что за этим. Кстати, говорят, что, когда Михаил Чехов играл Гамлета, у него там было одно молчание, и зал замирал. Эта пауза молчания зависала над залом. Потом его спрашивали: «А что ты в это время думал?» — Да я просто рассматривал гвоздь в полу. Может быть, он лукавил, а может быть, он был настолько сконцентрирован на этом гвозде, что его концентрация передавалась. Я бы вообще давала «Золотую Маску» за молчание, за паузу молчания. Это дорогого стоит.
БЮ: Это, конечно, очень точное замечание: значение паузы, молчания на путях концентрации театра, связанном с теми трансформациями и метаморфозами, которые ему предстоят. И в этом смысле молчание — часть развития разговора. Пауза всегда в театре образуется между чем-то и чем-то. Видимо, Михаил Чехов делал эту паузу в момент какого-то огромного, уже накопленного, акта с еще большим ожиданием, или трансформации, или метаморфозы — это разные вещи,— с каким-то невероятным ощущением перспективы всей роли, всего высказывания. И в этот момент он останавливался, и все, подхваченные его предыдущим, завороженные, соблазненные, все участники — и зритель всегда участник театра, — оставались в ожидании, а он, как опытный лоцман, внутри этой паузы, при помощи кажущейся концентрации на гвозде, проводил их сквозь Сциллу и Харибду остановки.
АД: Да, он провоцировал отклик.
БЮ: А вот в Вашем артистическом опыте эти паузы с чем связаны? Это же разные паузы, у разных режиссеров. Можно ли, например, рассказать о разных режиссерах через те паузы, которые вы делали в их спектаклях?
АД: Да, конечно. Я очень люблю эти паузы и всегда просила режиссеров, потому что я точнее играю в паузах, чем в словах, но мне это не разрешали почему-то. Но, знаете, я сейчас вспомнила по поводу невыраженного чувства. Мне показали какие-то странички Эсхила, но, естественно, не настоящие, а скопированные, еще древнегреческий текст. Там некоторые строчки были просто гласные: А-А-А-А-А или И-И-И-И-И-И. То есть не было слов, чтобы выразить эту боль: А-А-А-А-А! И тянулось это «А» бесконечно.
БЮ: То есть текст переходил в своеобразную партитуру?
АД: Да.
БЮ: Потрясающе. И много этих «А», почти во всю строку?
АД: Да, почти во всю строку.
БЮ: Поразительно. Это было связано с Вашей дружбой и работой с Теодором Терзопулосом.
АД: Да. Я много в Афинах жила и поэтому очень хорошо это чувствую. У меня, кстати, просчитывали реинкарнации — верить этому или не верить, это уже другой вопрос, — но мне сказали, что я была актером в Греции.
БЮ: Греческой актрисой или актером именно?
АД: Актером.
БЮ: То есть мужское начало.
АД: Там только мужчины были, женщины не играли.
БЮ: Да, конечно.
АД: И я сначала так скептически к этому отнеслась, но меня в Грецию как в воронку затягивает.
БЮ: Знаете, удивительно, меня тоже. Я вообще знаю: многие мои друзья в последнее время стремятся отдыхать в Греции. Вдруг ее значение по отношению к московской жизни повысилось. Все ждут времени, когда туда можно будет поехать. А вместе с ней, конечно, и античность. Потому что, когда люди едут туда, это же не только овощной отдых у моря, это именно притяжение античности.
АД: Это какое-то возрождение культуры, может быть.
БЮ: А знаете, вот меня поразило, Вам, конечно, это известно, что облик греческих скульптур, пришедших к нам в образе руин монохромных, из благородного мрамора или гипса, оказывается, абсолютно не соответствует тому, как на самом деле эти скульптуры жили во время их создания. Они были невероятным образом раскрашены ярчайшими цветами. Вы не встречались с этим?
АД: Да, да, это встречалось. Поскольку самое интересное — это в деревнях греческих, не в известных музеях. И вот как раз локальность чувств этих скульптур: ярость, ненависть, задумчивость. Очень хорошо они это делали, и даже появился какой-то канон. Но один раз я увидела барельеф, три фигуры плакальщиц, и у каждой был свой нюанс печали. Вот это дорогого стоило. Я подумала, боже, как это современно, нюанс печали, не просто печаль — Ниобея плачет по детям своим с рукой у лба обязательно, — а три разных оттенка печали. Разные оттенки одного и того же чувства — это современный подход, но он был, оказывается, и там.
БЮ: Мне всегда казалось, что греческая скульптура не выражает человека в принципе.
АД: Нет.
БЮ: Она выражает бога. То есть эти статуи греческие всегда, я это просто ощущал, говорили, что я реально имею дело с воплощенным идеалом. Почему меня так поразило, что они были раскрашены? Для меня это какое-то огромное противоречие, которое я внутри себя еще не разрешил. С одной стороны, я всегда в этих скульптурах или даже изображениях, на вазах, видел именно идеал, то есть это богиня представлена в своей печали, или в своих линиях, или в своей динамике. И ни что другое.
АД: Мне кажется, Вы не совсем правы, потому что там действительно было в основном [изображение] богов и богинь, и в основном эти каноны, но в маленьких вазах или барельефах — абсолютно быт, жизнь отображена очень точно, с деталями интересными.
БЮ: В первую очередь, конечно, в скульптурах.
АД: В скульптурах. Я имею в виду объемные барельефы. Но, когда мы делали «Федру» с Виктюком на Таганке, поскольку там было очень много движений, потому что надо было переложить поэзию на пластику, то у меня было черное платье, обтягивающее, но с очень широкой юбкой, с открытым горлом и обтянутыми рукавами. И мне все говорили: в Древней Греции не могло быть такого современного платья. Не могло, так не могло, но, тем не менее, я в этом играла. И вот в какой-то деревне в Греции смотрю смотри вот эти вазы, и вдруг по этим вазам — пляшущая женщина в таком же платье.
БЮ: Потрясающе, как интуиция работает. Вообще, и сегодняшнее время с этим существенным образом связано, повышается роль интуиции. Из рациональных форм познания, связанных с созданием метода или с познанием, в котором аналитическое превалирует, мы перемещаемся в какой-то другой целостный способ — вот что, как мне кажется, связано с античностью. Даже в собственной практике я вижу, как меняется формат моего диалога с актерами, как меняется способ моего — в одиночестве, в этом сквоше моего времени — ощущения текста или вообще сочинения. Я больше доверяю в самом себе и в другом — и в качестве нашего творящегося дела, и диалога, и общения — этом интуитивному, почти подсознательному обмену.
АД: А Вы показываете или рассказываете? Через слово или через пластику?
БЮ: По-разному. Я иногда просто начинаю сочинять стихи как бы рядом с тем, что я хочу передать. А иногда я просто могу пройти целую роль в рисунке, который был свойственен только Эфросу, то есть мелодически, но не для того, чтобы его передать, как хореограф исполнителю, а для того, чтобы передать собственную интуицию этой проволоки. Во всяком случае, мне свойственно весь инструментарий, накопленный режиссурой двадцатого века и принятый нашим поколением для оперативной работы, использовать очень неожиданным образом. Понимаете?
АД: Да.
БЮ: Он же рождался как метод, достаточно локализованный личностью и ощеренный форматом тех спектаклей, которые выходили из-под пера. А сейчас эта коллекция инструментария отправляется во имя целей и форм совершенно другого образа существования театра, вообще другого.
АД: Вы когда-нибудь были актером?
БЮ: Я всегда им остаюсь.
АД: Вы выходили на сцену как актер?
БЮ: Да, выходил, я же вначале закончил артистический, работал в провинции, потом, когда Анатолий Васильевич (Эфрос), один из двух моих учителей…
АД: Он, кстати, тоже был актером.
БЮ: Да, я играл в его работах, я даже играл Калибана в «Буре», которую он ставил в Пушкинском музее. И он меня всегда вызывал, и на мне, как на мальчике для битья, прокладывал свой рисунок. Он говорил: «Борь, иди сюда, значит», пока я не отъехал от него в сторону совсем другого представления театра. Как раз там меня и поджидал Анатолий Александрович Васильев. Потом я отъехал и от него, и серией этих отъездов творилось и продолжает твориться уже отъездами от самого себя мое путешествие в театре. Но, знаете, я хочу коснуться момента Вашей прекрасной мысли, когда Вы говорили, что с Мюллера начинается смешение, о чем связанные книги всегда предупреждали в негативном смысле, но их надо еще уметь читать. И то, что нам кажется негативным предупреждением, может оказаться чем-то совсем иным.
АД: Тем более переводы были разные.
БЮ: Да. Но даже если мы докапываемся до поверхности смысла, то дальше возникает искусство комментария, которое переворачивает все, что было сказано. И надо понимать, что так и устроены связанные тексты. Но я сейчас о другом. Вот понятно, что сейчас произошли серьезные изменения в театре. И в доминирующую форму европейского театра вышло то, что принято называть постдраматическим театром, и связано это с до конца еще не разгаданными процессами. Он определяется огромным количеством примет, среди которых одной из важнейших является выход из под доминирующей власти текста, то есть всех тех техник, на которых построена наша традиция превращения текста в текст спектакля, то есть в игру, искусство работы с диалогом и так далее.
АД: Это, к сожалению, традиция русского театра.
БЮ: Она на этом построена.
АД: Я ужасно это не люблю, сказать честно, так называемый психологический театр.
БЮ: Да, но это одно из проявлений глубинной техники отечественного театра, связанной с превращением текста в театр, в игру.
АД: У меня, простите — маленькая врезка — вообще лакмусовая бумажка для театра: я очень люблю смотреть спектакли на чужом языке. Если я все понимаю, значит, хороший театр. Если я и на русском ничего не понимаю, значит, что-то не донесено. Это все дословесно.
БЮ: Тут есть понимание через нарратив. Как раз у упоминаемого нами Анатолия Васильевича Эфроса был прекрасный образ. Он говорил: «Представьте, что вы поставили стекло, которое съело все слова, но в поведении вы должны все понимать». Это один тип понимания. А другой тип понимания возникает у чуткого и ответственного и при этом свободного естественного зрителя, например, в общении с картинами Кандинского: вы тоже можете все понимать, хотя там абстрактная игра линий с фактурой и композицией.
АД: Тут еще важна интонация. Например, у Эфроса этот взнервленный проброс фраз: [нервно и впроброс]. Мама живет на пятом этаже, накурено, старый патер. Но, предположим, так же взнервленно: [произносит фразу по-немецки с той же интонацией]. Все. Интонация Вам понятна и там, и тут. Неважно, на каком языке.
БЮ: То есть Вы понимаете происходящее на уровне поведения, не при помощи слов.
АД: Поведения и звука. Не слов, звука.
БЮ: А звук связан с энергией.
АД: С энергией, с интонацией, с жестом.
БЮ: Но теперь представим, что мы ушли с области, где существует нарративный театр, туда, где существуют иные его формы, бесконечно разнообразные сегодня во времени. В этом смысле я и сказал о Кандинским, который лишен литературщины вообще как таковой, вместе с нарративом, сюжетом и вытекающими из этого каверзами по отношению к фабуле. То есть некий совершенно другой, стянутый в единство, образ высказывания или образ существования.
АД: Через цвет.
БЮ: И композицию, и через линии в графике и так далее. В этом смысле тоже можно сказать, есть картины, которые я мгновенно понимаю, но другими средствами, не рациональными, или есть скульптура, или есть инсталляция. То есть область огромного перформативного космоса, который сегодня с абсолютной свободой и полноправием ворвался в театр, и театр встречается с этими формами, с этим иным совершенно образом организации передачи высказывания.
АД: Вы сказали «образом», а я переиначу немножко. Все равно должно быть образное мышление, все равно должен возникать образ, метафора, огромная метафора, потому что без это будет та же разорванность чувств, разорванность красок, разорванность мизансцен и разорванность мысли — недаром Вы говорите о Кандинском. Он это все разрывал. Соединял иногда, но только в силу своего таланта. Вы знаете, у меня ассоциативное мышление. Поскольку Вы мне сказали о Кандинском, я вспомнила, что ужасно забавную вещь прочитала: была такая компания, Елена Гуро, Матюшин (ее муж), Малевич и вот эта компания молодых. Елена Гуро, видимо, самая талантливая из них была, но рано умерла, в тринадцатом году. А Матюшин был и композитором, и в театре работал как оформитель, художник, тогда не называли «театральный художник» — оформитель. У него было на заднике огромное красное солнце. Ему надо было закрыть это солнце чем-то. Он бросил своим друзьям: «Чем можно закрыть круг?». И Елена Гуро: «Круг можно закрыть квадратом. А, если красное огненное солнце, то, конечно, надо черным квадратом закрыть». Так возник «Черный квадрат» Малевича. Вот, понимаете, но все равно это образ, образ солнца, которое закрыто черным квадратом.
БЮ: А на самом деле «Черный квадрат» существовал уже три тысячи лет. В тфилине, например, в иудаизме и так далее.
АД: Конечно.
БЮ: И жест, который осуществил Малевич связан не просто с образом. Он дальше как бы разорвал образ и, отринув солнце и вместе с ним — свет образа, выставил его отдельно и совершил завершающий или, наоборот, поражающий жест ко всей культуре предыдущей. Вот что сделал он этим квадратом. Здесь одновременно он закрыл дверь в виде этого квадрата и открыл. Сам этот жест, похожий по резонансу и судьбе его произведения в истории культуры, и был им осуществлен. А здесь уже нет метафор, здесь уже нет образа. Или, например, если мы встретимся — я сейчас специально на время хочу чуть-чуть оспорить, но не Ваше ощущение мира, а просто некий предмет, о котором мы говорим, чуть-чуть повернуть с другой стороны, если позволите, Алла Сергеевна. Например, если мы встречаемся с древним восточным искусством, это не общечеловеческие образы и не общечеловеческий образ энергии. Это рафинированный, например, театр Но, и очень сложный язык, который осуществляется во всем многообразии, сведенном к единству самой этой грамматики, языка, ритуальному единству, язык, при помощи которого выстраиваются довольно сложные, не прямо соседствующие даже с экзистенциальной частью нашей жизни, ряды драматургии и игры. При этом вот что удивительно: внутри этого ритуального языка, очень рафинированного, опирающегося на сложные вещи и в этом смысле абсолютно закрытого от прямого восприятия «из жизни — в театр», существует система чувств актеров, которая, если бы она не была так заслонена собственно театром Но, была бы нам совершенно понятна. И я опять оказываюсь перед каким-то новым для себя вопросом, ответ на который я не хочу знать, пусть вдруг возникнет в моем иррациональном: зачем же они заслоняют эту систему чувств, которая в принципе такая же, как у нас, всем остальным, что собственно и является ими, тем, почему мы и говорим о них «театр Но». Зачем они это делают испокон веков?
АД: В Токио я как-то пошла на один спектакль, не было туристов, обычный шел спектакль, публика даже немножко разговаривала, потому что была, видимо, комедия, но потом — у них же одноактные идут действа, — видимо, что-то серьезное. Публика замолчала.
БЮ: Это Кабуки или театр Но?
АД: Это было в Кабуки.
БЮ: Кабуки — это уже даже иное, там ритуальность снижена очень сильно.
АД: Это еще более древнее.
БЮ: Театр Но древнее Кабуки.
АД: И вдруг по этой желтой дороге, которая у них слева, вышел обычный самурай, нога впереди, руки перед грудью, и повисла пауза, зал замолчал. И вдруг зал разразился аплодисментами. Я не поняла ничего и спрашиваю своего знакомого. Он преподавал и переводил Чехова, поэтому немного знает русский. Я его спросила «А что случилось?». Он говорит: «А Вы что, ничего не заметили?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Ну как же! Он накапливал энергию». Я говорю: «Ну, предположим». А потом он так резко сдвинул брови, что до него в этой роли ни один актер не мог так сделать, и публика, как в итальянской опере пришла на верхнее «ля» или «до». Конечно, другое немножко ритуальное восприятие театра. Но, опять -таки, я думаю, в принципе было все. Это Адаму, наверное, было легко — любое слово было первозданным, он говорил «А», и Ева кричала: «Гениально!». Поэтому мы сейчас, оттого, что на нас обрушилась возможность знать все — раньше мы сидели как-то келейно, какую-нибудь книжечку читали, кто-то что-то рассказал, и уже было знание и последовательность этого знания и учение этого знания. Сейчас распахнулось знание, распахнулась многовековая культура. Поэтому можно брать все, что угодно. А театр в этом смысле очень хваткий персонаж, он сейчас будет хватать все, что ни попадя, и мне это очень нравится это микс: соединять несоединимое, чтобы не было учения или подвижничества одной идеи. Сейчас можно делать все.
БЮ: Мы как раз об этом говорим, это пронизывает наш разговор, начиная от смешения чувств у Мюллера и заключая смешением форм театра в единстве настоящего времени.
АД: А Вы говорите, что нет диалогов.
БЮ: При том, что одна из участей театра – это осуществлять высокое, как бы запрещенное священными книгами, смешение, вторая участь театра, как мне кажется, особенно сейчас — участвовать в эпохе и находить, образовывать, выражать уникальность этой эпохи, образуя свои, условно говоря, ритуалы, форматы, свою грамматику, свой язык. И это такая же участь театра в силу его исходной позиции в культуре. То есть, с одной стороны он принимает на себя времена, формы, разнообразие отношений с миром, празднуя свободу от догмы и от этой псевдотрадиции. Принимая и празднуя эту свободу, он совершает акт смешения, и это одна из функций театра, но в этом смешении находя уникальность лица. Это одна история, но вторая история, на которую он обречен объективно: он образует свой собственный язык, то есть язык этого времени. При всех догмах театр двадцатых годов образовал этот язык, и, если бы не было перемен, катаклизмов, этот язык, развиваясь дальше, стал бы не менее рафинированным и чудесным в своей рафинированности, то есть своей отобранности, тщательности, в своей перфекционности, чем язык предыдущих эпох. Таково свойство театра: он очень быстро образует грамматику и стремится ее отточить. Но катаклизм прерывает этот процесс, возникает новое зарождение — сталинский стиль так называемый; потом возникает еще какой-то стиль и еще. Все это не дозревает до перфекционности и оказывается просто участником переменчивого времени. Это то, чему сопротивляется ритуал: веками возрастая в одном и том же, стремясь к этой рафинированности.
АД: Хорошо, что вы говорите об авангарде: авангард —всегда хорошо, а потом он растворяется в ритуалы и каноны. Но мне и на сегодняшний день нравятся старый замшелый театр. Вот, например, сейчас приезжала Ла Скала, «Симон Бокканегра», старая опера. И эта такая провинциальность, пыльность, но в то же время какие-то старые роскошные костюмы, декорация из папье-маше, условные дома и прочее — то есть этот старый театр! Я, кстати, очень не люблю оперу с психологическим подходом.
БЮ: То, что называется «драмбалет».
АД: Да, не люблю этот разбор, как на улице. Но тогда почему вы поете? Это условность, и она должна быть доведена до какого-то завершения. И поэтому мне этот ритуал, старый, очень по сердцу. Или, предположим, в Малый театр я иногда раньше ходила, сейчас меньше — мне нравились старики, они по-другому играли. Или даже мхатовские Степанова, Кторов. Такое уважение к слову, которое мы потеряли, мы пробрасываем, потому что за словами ничего нет. И сейчас, к сожалению, это уходит, жалко, жалко.
БЮ: Меня просто очаровывает, Алла Сергеевна, Ваша способность различить многообразие возможностей театра через подлинное внимание к нему и к чувству. Это очень существенно для всех нас, потому что, конечно, заходишь в музей, универсальное хранилище искусств, и видишь, стремительно идешь по залам, иногда останавливаешься. Из зала, где Веласкес, попадаешь в зал кубизма и вдруг ощущаешь, что одно равно другому.
АД: Ну, да, и то, и другое хорошо.
БЮ: Вдруг понимаешь, что ты празднуешь самого себя в этом восприятии искусства, потому что ты понимаешь и радуешься — в тебе есть средство вселиться со старым временем и с новым. И в этом смысле, конечно, этот прекрасный кристалл универсального восприятия, который нам дарит сегодняшнее время, стоит хранить, не обуживая его и не растрачивая на взаимные агрессии новых и старых времен.
АД: Золотые Ваши слова.
БЮ: Теперь я хотел бы поговорить о чем-то совершенно, казалось бы, другом. У Вас были период – Вы работали с Ефремовым, это огромный путь, практически Вы творили и участвовали в становлении стиля огромного театра и этого режиссера. Потом Вы очень много снимались, это кино и тоже особый образ. Далее Вы работали в совершенно другом виде искусства, на телевидении, на радио. Дальше Вы совершили путешествие в совершенно иные времена: встретились с гением греческого театра, модернистом, который возвратил энергию древнего греческого дионисийского театра в это время.
АД: Он соединил архаику с современным нервом.
БЮ: Потом Вы работали с гением русского театра, с Анатолием Александровичем Васильевым, и, возможно, что-то еще и впереди Вас ждет.
АД: Впереди меня ждет работа с Анатолием Васильевым.
БЮ: Я и сказал, с Анатолием Александровичем. Можно об этом говорить?
АД: Да, почему нет?
БЮ: Вы могли бы рассказать, это очень интересно.
АД: Может быть, еще рано рассказывать. потому что это будет только во время Чеховского фестиваля следующим летом. Поэтому немножко рано, но мы уже начали работать.
БЮ: Это прекрасно. То есть Вы совершаете и совершили огромное невероятное путешествие через универсум процессуальности как таковой. Вы практически оказывались в центре самых разных видов искусств, которые вместе слагают это прекрасное слово «процессуальность», Вы даже в опере участвовали. Скажите, из всего этого многообразия, складывающегося в Вашу судьбу, в Ваше путешествие, есть ли что-то, что продолжает оставаться Вашей подлинной любовью и интересом или кто-то?
АД: Нет, сейчас уже отстранение от всего этого, скорее наблюдение, зрительское, читательское и так далее. Правда я люблю еще писать книжки. У меня есть несколько уже книжек, но это скорее ассоциативная память, дневники, что-то вспоминаю, что-то рассказываю, что-то анализирую, потому что опыт действительно большой. Сейчас сидела на даче летом два месяца, ни с кем не общалась, — очень хорошо — и написала две книжки. Одна скоро выйдет, в октябре, так называемые «портреты», хотя книжка называется «Ностальгия — это тоска по детству», так будет называться, но это будут портреты людей, с которыми я встречалась в жизни, не только в творчестве. Мне так повезло, что у меня друзья были очень талантливые, и гениальные даже. О них память. И еще одна. Это мне нравится, этот процесс.
БЮ: Это очень естественно, мне кажется. Когда такой огромный объем пережит и прожит, то вдруг, как в древнем индуизме, Вы садитесь на берег и наблюдаете поток Вашей собственной жизни, превращая его в тексты Ваших книг.
АД: Я, конечно, не писатель, но подумала, что это очень похоже на актерскую профессию, потому что надо войти в образ, в это состояние предлагаемых обстоятельств и дальше уже рассказывать, но только через руку.
БЮ: Это как раз связано с моим вопросом. Ведете ли Вы дневник, то есть некоторую ритмичную, пусть не ежедневную запись событий?
АД: Раньше — да, сейчас — нет.
БЮ: А когда Вы пишете, пользуетесь дневником?
АД: Да.
БЮ: То есть эта алхимия записанного и пишущего продолжает работать.
АД: Да, но у меня дневник как дневники Блока: «Мама приехала, Тетя уехала»
БЮ: А дневники всегда такие.
АД: То есть никак не мысли, не чувства — какой спектакль, кто уехал. Поэтому, когда я сейчас писала и об Эфросе, и о Любимове, и об этом разладе Таганки, мне очень помогли именно дневники, потому что последовательность событий раскрывает больше, чем слова.
БЮ: Можно я коснусь этого момента, тем более, что Вы об этом пишете? Я его тоже по-своему пережил, потому что был студентом Анатолия Васильевича. Я помню прекрасно этот момент, когда он вышел с Малой Бронной и отправился на Таганку. Все это было очень и очень непросто, его встреча с актерами, его невстреча с Юрием Петровичем и его смерть, которая произошла в первые две недели 87-го года.
АД: Тринадцатого января 87-го года. Вы знаете что: мы ведь всегда во всех делах рассматриваем следствия, а причина всегда глубоко. 74-75-й год, когда Любимов уехал надолго ставить оперу в Милане в Ла Скала и оставил театр на попечение Эфроса, а они тогда только что сделали Мольера на телевидении и вроде бы были сотоварищи, не скажу друзья, но сотоварищи, работали вместе. —Толя, ну спасай! Поставь что-нибудь за эти полгода, пока меня не будет в театре. Что ты хочешь?
— Ну, давай «Вишневый сад» поставлю. — Хорошо. Любимов уехал, и мы эти полгода работали с Эфросом влюбленно совершенно, потому что совершенно другая манера работы и так далее.
БЮ: И Высоцкий играл Лопахина.
АД: Лопахина — Высоцкий и так далее. Вообще я помню, когда Эфрос, он всегда заходил ко мне за кулисы перед спектаклем, уже перед самой смертью, в декабре 86-го года, зашел и сказал: «Вот если бы я поставил один только «Вишневый сад», этого было бы достаточно». Так он ценил этот спектакль. Любимов не принял абсолютно этот спектакль изначально, он даже смотрел его вполоборота. То есть он даже не хотел его принимать, но, тем не менее, не убрал его из репертуара.
БЮ: При грандиозном успехе, что подчеркнуло этот момент.
АД: Да. Но, тем не менее, когда приглашали на БИТЕФ «Гамлет» и «Вишневый сад», Любимов не возил «Вишневый сад», а возил только «Гамлета» и так далее.
БЮ: БИТЕФ — это был тот самый югославский фестиваль, единственный для всего Советского Союза тогда, который давал возможность выехать на Запад.
АД: Да. Когда Любимов в 82-м году ставил в Лондоне «Преступление и наказание», Вы знаете, он случайно там остался. Он даже не остался, он задержался, его хорошо приняли, у него были еще возможности ставить что-то, были подписаны договоры. Поэтому он написал заявление «по болезни отпуск», и мы это знали, что отпуск, но отпуск слишком долго продолжался, до января. Слишком большой отпуск, но мы надеялись на Андропова, потому что в свое время Любимов не принял его двух детей в театр, и Андропов ему позвонил и поблагодарил за это. То есть надеялись на Андропова, но мы не знали, что Андропов уже в это время был смертельно болен. И хлопотали, у меня есть письмо Любимова: «Как можно вернуться? Потому что у меня уже нет визы». Мне дали телефон Черненко, и я позвонила Черненко. Он мне довольно-таки грубо сказал, что этим вопросом не занимается, а потом умер Андропов, назначен Черненко, лишен гражданства Любимов, назначен Эфрос. Так вот в этот промежуток, до того, как назначили Эфроса, я с ним репетировала в театре на Малой Бронной пьесу Уильямса. Там были Настя Вертинская, Оля Яковлева, я и Неелова — он собрал четырех актрис из разных театров.
БЮ: Какую пьесу?
АД: «Прекрасное воскресенье для пикника», которое он потом на Таганке сделал. И я была в курсе и эфросовских дел, и дел у нас в театре. А мы знали, что Любимов не собирался оставаться там: мы когда по его просьбе вошли в его квартиру, увидели, что на кухне стоит недопитая чашка кофе, то есть люди не собирались уезжать. Они там застряли. И я Эфросу сказала: «Мы будем хлопотать о возвращении Любимова. Не надо идти на Таганку». «Ну, Алла, я еще посоветуюсь с мамой, с женой и так далее». Но он уже решил. И он пришел, не сказав даже мне об этом, хотя я его предупреждала. А дальше уже три года наших стараний вернуть Любимова. Мы с ним встречались за границей, мы переписывались, мы говорил с ним по телефону. Эфрос был в курсе. И, кстати, когда в декабре 86-го года, перед смертью Эфроса, было коллективное в Верховный совет, чтобы вернули Любимова, Эфрос это письмо подписал. И умер через несколько недель, 13-го января 87-го года. Опять-таки, чтобы нам не назначили еще раз кого-нибудь со стороны, мы попросили Губенко пока побыть главным режиссером. И так возник Губенко, к сожалению, недолго, года на два. Он в это время был уже министром культуры. И потом возвращение Любимова сначала по частному приглашению, а потом уже с возвращением. Сейчас говорят, что Губенко вернул. Но мы возвращали еще при Эфросе, когда Губенко не было в театре. Поэтому эту последовательность событий никто не принимает во внимание. Просто такой хаос, что кто-то кого-то обманул.
БЮ: Так фиктивное возникает в культуре. Вы знаете, интересно, вот символический ряд, который сопровождает историю. Вы сейчас рассказывали, это аукнулось моей судьбой. Я в этот момент был в Питере, и у меня был Театр-Театр в абсолютном андеграунде, практически в отказе от участия в жизни официального театра. И я в декабре делал очень радикальный спектакль, как это ни странно, тоже связанный с Уильямсом, с его пьесой «Говори со мной как дождь и не мешай слушать». Это тоже удивительный момент и еще ряд вещей, но переведенных в очень острый радикальный перформанс, связанный с некрореализмом. Что бы это ни значило, потому что некрореализм — это игра в стиле очень ядреного черного глубинного скоморошества.
АД: Я этот жанр называю «черные игры на черном дворе»
БЮ: Да. Все это связано с атласом судебной медицины, с трупами, с этой игрой. С этим связаны были свои элементы потом. У нас был такой Женя Юфит, который создал целое движение некрореализма в кино, параллельное кино, все это. Ведь шла перестройка, все это начиналось, заваривалось. И я делал спектакль, который вел у меня 30-31-го декабря во Дворце Молодежи, из-за которого меня оттуда выгнали с треском «за эстетическую несовместимость», как комсомольцы сказали. И назывался этот спектакль «Хохороны». Он был связан с одним чеховским словечком. Она открыла и прочла телеграмму «Хохороны завтра». Через две недели умирает Эфрос, мой учитель. И под чувственное сотрясение этого символизма времени, истории, моей собственной жизни, внутри этих хохорон истории я перемещаюсь, думая, что просто на время, возвращаюсь в Москву навсегда, вместе с этим иду к Васильеву в его рождающийся театр на Поварской и присутствую у гроба. И вот эти хохороны, то, что Вы рассказываете мне, эта перестройка и все вдруг во мне отзываются этим чеховским, обобщающим подчас больше, чем то, на что они намекают, словечком «хохороны». В этот момент вся наша страна переживала эти самые хохороны. И дальше возвращение Любимова, оказывается, завершается в театре на Таганке такой страшной петлей — его уходом, подлинным и навсегда уходом из театра. Но Вы уже не были.
АД: Нет, я не была в этом. Раздел театра тоже намечался очень давно. Вообще, Вам на будущее, когда режиссер надолго покидает свой театр, в театре начинается брожение. Это закон. Это было с Товстоноговым, это было Ефремовым, это было с Любимовым, это было с Эфросом на Бронной. Это закон театра. И поэтому разрыв театра был очень закономерен. Но делайте, ради Бога, свой театр на пустом месте. Нельзя было брать Новую сцену, где было восемь шедевров любимовских: и «Доктор Живаго», и тот же «Вишневый сад», и «Три сестры», и «Борис Годунов» и так далее. Те спектакли, которые не могли перейти на старую сцену, просто умерли. И даже последний спектакль «Электра», где я была…
БЮ: Они были на старой сцене?
АД: Все эти спектакли были на новой сцене. И «Электра» — это была моя последняя роль. У меня, надо Вам сказать, только выявляется после десятого спектакля, а этот разрыв произошел сразу. Поэтому спектакль даже никто не видел. И все эти спектакли умерли. Вот их грех, а никак не то, что они отделились от Таганки. Это закономерное дело, когда сын отделяется от отца и так далее, но он не отбирает квартиру отца. А потом, когда Любимов вернулся, там уже было другое поколение новых хунвейбинов, которые не знали ничего про Таганку, они начинали новую жизнь. Их, конечно раздражал этот мэтр со своими старыми законами. И все, что у него за плечами, они не приняли во внимание.
БЮ: Да, потрясающая история. Не буду дальше, потому что, конечно, это очень болезненный момент для всей нашей театральной культуры — смертельный разрыв Юрия Петровича с театром, вплоть до того, что прощание с ним происходило в театре Вахтангова. Я был тогда и помню это внутреннее недоумение того, что я прихожу к Любимову прощаться в театр Вахтангова, а не на Таганку.
АД: В следующем году, в 17-м будет столетие Любимова. И мы как раз с Анатолием Эфросом. Простите. Я всегда его путаю кстати.
БЮ: Ну два Толи.
АД: Я всегда говорю: «Анатолий Васильевич, ой, простите, Анатолий Александрович». С Анатолием Александровичем Васильевым делаем спектакль в память Любимова на сцене театр Вахтангова.
БЮ: Опять на сцене Вахтангова, это поразительно! Потому что Ваша судьба и кульминация этой судьбы пришлась на Таганку, а судьба Анатолия Александровича тоже связана с этим, потому что Любимов практически спас два его спектакля, в первую очередь — «Вассу», и позволил родиться гениальному спектаклю «Серсо» на Малой сцене, где я тоже скромное участие принимал на протяжении трех лет как его ассистент на спектакле. Это потрясающий труд. И, насколько я помню, Анатолий Александрович помогал Юрию Петровичу в работе над «Борисом Годуновым», там даже осталось два стула его, в спектакле.
АД: Да, доска, два стула, жезл.
БЮ: И какой-то общий эпический стиль, которым дышал этот спектакль, обогащающий новый этап Таганки. То есть у них было очень плодотворное сотрудничество с какими-то иными характеристиками и финалами, чем его взаимодействие с Эфросом.
АД: Таганку надо переименовать. Потому что мне жалко людей, особенно приезжих, которые приезжают и идут в Театр на Таганке, а там другие стены, другая сцена, фойе другое, поэтому надо театр или назвать Театр имени Любимова, или Театр Высоцкого или, как хотите называйте, но не Таганка.
БЮ: Ну да, это в принципе связано с тем, когда театр расстается с самим собой. Удивительно, что судьба моего второго учителя, Анатолия Александровича Васильева, связана с такой же огромной драмой, и сейчас хочется сказать, что надо переименовать театр «Школа драматического искусства»: он уже просто театр, он уже не является никакой школой. При том, что там страждут в плену этой ситуации множество учеников Анатолия Александровича. Но, конечно, это уже другой театр с другой судьбой. И я уверен, что в само это здание новое Васильев не вернется. На Поварскую — да, надо, чтобы она вернулась к нему. Не создатель должен возвращаться — мы это знаем из религиозной истории — к своему творению. Творение должно взять на себя обязанность возвращения к своему творцу. Это единственный путь для творения. Так нас учат древние мудрец, а, если этого не происходит, то творение должно само назначить себе имя.
АД: Да, да, Вы правы.
БЮ: Обозначить себя, это правда. Это так. Я хочу сейчас взять завершающую тему и спросить Вас о Ваших отношениях с новым театром, с тем театром, в котором, возможно, Вы даже уже не участвуете как актриса, а наблюдаете его развитие. Ведь сейчас происходит подлинная революция театральная, бархатная, в театральных формах, во всем том, что сейчас творится в новой режиссуре, в этом активно сейчас действующем поколения, выраженном массой имен. Какое у Вас к этому отношение?
АД: Вы знаете, я вообще хороший зритель, я смотрю все. И немножко даже участвую, потому что сейчас я буду репетировать с Серебренниковым и в начале декабря выйдет спектакль «Поэма без героя». Кто-то у него сделал Пастернака, а Серебренников делает Ахматову. Так что это будет театральное действо, а не просто концерт. Время от времени я к этому возвращаюсь. Мне нравятся молодые на сцене со своей какой-то нервностью, бесшабашностью. Ну, например, «Сон в летнюю ночь» в театре Фоменко, Поповски поставил. Вообще ведь пьеса очень сложная, и я ее очень хорошо знаю, потому что с Юровский мы это делали с оркестром, я адаптировала текст, была в материале. И когда я увидела этот спектакль, легкий, воздушный, феерический, он мне очень понравился. Или, например, совсем по-другому понравился мне богомоловский спектакль «Карамазовы». Абсолютно была против его «Бориса Годунова», например. Это не значит, что мне нравится Богомолов, мне нравятся его поиски. Вот в «Карамазовых» он был настолько щедр, что у него три акта были каждый как отдельный жанр. Мне иногда нравятся актерские какие-то дела, причем, очень детали мелкие. Ну, например, Ксения Раппопорт хорошо играет в Шиллере.
БЮ: Это у Додина?
АД: У Додина, в Шиллере, леди Мильфорд она играет очень хорошо. Или, например, в «Сатириконе» Яго играет актер Тимофей Трибунцев, сейчас я видела его в фильме Досталя по сценарию Арабова «Монах и бес», он играет монаха. Очень хорошо, просто изумительно. Или вдруг видишь молодого Ивана Янковского, правнука. Опять-таки молодые в кино сейчас играют все одинаково. Играют хорошо. Так будем говорить. Если играют плохо, значит, дело уже режиссера, а не этих актеров, значит, он неправильно смонтировал или неправильно поставил обстоятельства. То есть они научились играть хорошо, но 99 — вода не кипит, 100 — она кипит. Вот один маленький градус, одна маленькая деталь. «Бумажный рай» [«Тряпичный союз»] называется этот фильм, где четыре молодых очень хорошо играют, одинаково все играют, и он тоже хорошо и одинаково вроде бы. Но он там смотрит, просто смотрит, вот опять-таки, пауза молчания, с прищуром а-ля Янковского-деда с полутенью ревности, не ревность, а именно с полутенью, о чем мы с Вами в начале говорили. И вот это дорогого стоит, эти маленькие нюансы нелокальных чувств, это не у многих есть. Когда я это отмечаю, мне это нравится.
БЮ: Это именно существенно в кино, когда мы можем различить это, когда камера, язык режиссера, позволяет это сделать.
АД: В театре сейчас тоже, потому что приближают крупный план через экран. Поэтому театр сейчас впустил кино на свою сцену, поэтому укрупнение возможно.
БЮ: Ну, скорее видеоарт он впустил на свою сцену.
АД: Нет, вот сейчас в Авиньоне «Комеди Франсез», «Гибель богов». Они очень хорошо использовали этот экран.
БЮ: Функционально увеличивая план, играя с планом?
АД: Да, да, да. Именно диалоги увеличивали, приближали к зрителю огромный экран.
БЮ: Но это меняет театр. Это же происходит и с акустикой, с микрофоном. Но в этот момент, условно говоря, крупный план актера отрывается от его тела. Или отрывается от мизансцены.
АД: Микрофон мне ужасно не нравится.
БЮ: А микрофон ведь вроде делает то же самое: голос отрывает от его источника телесности, цельности человека, и этот голос на нас начинает идти отовсюду. И крупный план актера начинает идти на нас, как это свойственно кинематографу, отовсюду. В этом смысле это испытание для театра, который всегда был источником всех своих свойств, человека, актера, когда он там, в центре. И в тоже время это испытание происходит в акустическом смысле.
АД: Вы правы как режиссер. Для театра это, конечно, приобретение, а для актерской профессии — убыток. Потому что современные актеры плохо говорят, на одном уровне, у них нет высоких нот, нет низких. Поэтому они не смогут сыграть какую-нибудь древнегреческую трагедию. У них усредненный тембр голоса. У них нет посыла на последний ряд. У них нет энергетики слова и энергетики жеста, потому что они все надеятся на это укрупнение нетеатральное. Поэтому, актерская профессия в этом смысле очень ущемлена и теряет много.
БЮ: Да, интересно, что в одном случае, когда мы говорим об укрупнении при помощи видео, мы оказываемся способны вникнуть в тончайшую игру оттенками чувств, а в другом случае, когда мы говорим об усилении при помощи микрофона, мы все-таки не проникаем к этой тонкой игре и проявлению человеческой природы, которая не требует усиления голосом.
АД: Вы знаете, не проникаем вот почему, я сейчас объясню чисто технически. Потому что у всех эти микрофончики около уха или около щеки просто усиливают звук, а работа с микрофоном совершенно другая: нужно приближаться к микрофону, отходить от него и так далее. То есть это работа с микрофоном на поэтических вечерах, или, например, я сейчас вдруг для себя открыла такого певца, которого все знают и не любят — Григорий Лепс. А я, так как я сторонний человек, сейчас для себя открыла и все время по интернету слушаю его клипы и слушаю его песни. Как он точно работает с микрофоном! Микрофон его сделал, то есть умение работать с микрофоном, не усиливать голос — вот эти крикуны наши, помните у Островского: «Нынче крикуны-то не в моде»,— нет, работа с микрофоном это совершенно другие дела.
БЮ: Да, очень интересно, даже опера сегодня примыкает к микрофону, то есть возникает своеобразный симбиоз, то, чего раньше никогда не было — техника и артист оказываются в единой связке между собой, и все зависит от этого их взаимодействия, киберэффект, постепенное приближение и вхождение техники в самую глубину изначально абсолютно гуманоидных форм театра.
АД: Ну в конце концов: кино брало ото всех искусств понемножку, и вообще киноязыка практически еще нет, они еще не нашли свое, они еще просто пока берут, соединяют. В театре тоже надо это делать.
БЮ: Я благодарен времени, судьбе и всем сотрудникам нашей передачи, что эти встречи состоялись. И, в первую очередь, спасибо Вам.
АД: И спасибо Вам, потому что, надо Вам сказать, я давно не говорила в диалоге, у меня в основном все монологи шли, потому что интервью или книжки мои. А поговорить о театре всерьез сейчас, в общем, и не с кем.
БЮ: А мы начали с этого. Как интересно, что у нас получилось кольцо. Спасибо Вам, Алла Сергеевна, всего доброго, дорогие радиослушатели.