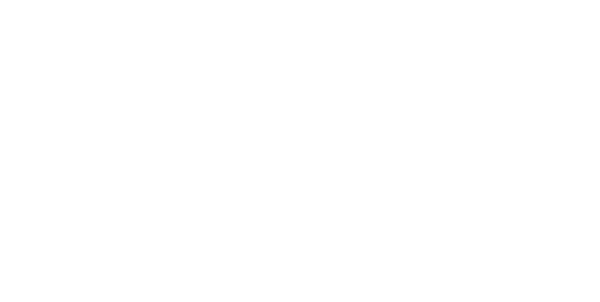Репетиция Оркестра. «Подсолнухи» Бориса Юхананова
Elena Kovalskaya | Affiche | 2 April 2002 | article
Двадцать с лишним лет назад Владимир Высоцкий предложил Алле Демидовой сделать спектакль по одной из последних пьес Теннесси Уильямса. Они репетировали, когда выдавалось время, — и так и не дошли до премьеры. 25 июля 1980 года Высоцкий скончался. Виктор Гвоздицкий репетировал эту пьесу дважды — один раз с Татьяной Шестаковой у Льва Додина, второй раз — с Екатериной Васильевой и Камой Гинкасом. Ни в первом, ни во втором случае спектакль так и не вышел. Второго апреля Гвоздицкий выйдет на сцену в этой пьесе в паре с Лией Ахеджаковой. Они дошли до конца. На этот раз пьесу ставил Борис Юхананов. Они действительно дошли до конца, потому что сыграть эту пьесу могут только большие артисты, и только те из них, кто уже ощутил актерство как самоубийство, — и еще те, кто чувствует игру как единственный выход. Одна из самых депрессивных пьес, когда-либо писавшихся для театра, и уж точно самая отчаянная пьеса о театре: сложная, запутанная, мистическая и настолько же притягательная для актера, как и тот пистолет, к которому тянутся ее герои. В ней брат и сестра, актеры гастролирующей труппы, приезжают в некий театр и собираются играть пьесу под названием «Игра для двоих». Герои этой пьесы в пьесе — двое детей, тоже брат и сестра, закрытые в доме, где то ли мать застрелилась, убив перед тем отца, то ли, наоборот, отец застрелился, убив жену. С детьми тоже непросто: похоже, они сами застрелили родителей и теперь готовы покончить с собой, но и то вероятно, что их тянет повторить то, что сделали родители. Актер и актриса заканчивают играть эту пьесу в пустом зале. Публика ушла, они заперты, у них, как у тех детей, нет выхода, кроме пистолета. И так же, как те дети, спрятавшие пистолет и принявшиеся пускать мыльные пузыри, двое начинают играть пьесу сначала — в пустом зале, торопясь дойти до сцены с пистолетом. Уильямс написал это, пережив пустые залы на своих пьесах, смерть любовника, суицидальные порывы и психиатрическую клинику. Пьеса, которую Уильямс считал лучшим из того, что он написал после «Трамвая "Желание"», и лучшим названием чему, по его мнению, было бы «Крик», Борис Юхананов переименовал в «Подсолнухи». Подсолнухи, вытянувшиеся за окнами дома, в котором живут дети, объясняет Юхананов, — это, собственно, те, кто тянется к свету. В данном случае первый подсолнух — это сам Юхананов, авангардист, пустившийся в плавание с мастодонтами русской реалистической школы. И художник Юрий Хариков, придумавший, что это пьеса про чистилище, тоже подсолнух. Но в первую очередь подсолнухи — это Ахеджакова и Гвоздицкий, решившиеся сыграть эту пьесу, рискуя, как и их персонажи, оказаться в финале в пустом зале и приблизиться вплотную к ночному актерскому кошмару о последнем провале. Они осмелились рассмотреть нос к носу тот предел, к которому рано или поздно приходит большой артист: где за смертью театра следует его начало. Дневник их репетиций, на мой взгляд, конгениален пьесе Уильямса. Ниже — отрывок из него.
Юхананов: Я хотел у вас спросить про детство. Была ли у вас в детстве какая-нибудь игра, которую вы до сих пор помните?
Ахеджакова: Да... У нас не было кукол, и мне подарили зайчика. И этот зайчик был то мальчик, то девочка... Я давала ему какие-то немыслимые имена, играла с ним в театр.
Юхананов: А у вас, Витя?
Гвоздицкий: Помню, я наряжался.
Ахеджакова: Папа, помню, привез трофейные игрушки, и там были потрясающие маленький унитазик, мебель какая-то... А почему вы спрашиваете?
Юхананов: Не пугайтесь. Я хочу опробовать некую интермедию. Это чуть-чуть расширит эпизод с мыльными пузырями.
Ахеджакова: Только Геродота не упоминайте.
Юхананов: Наверное, я упоминал Гераклита. Ну бог с ними. Любое воспоминание убирает четвертую стену, и зритель будет это пить.
Ахеджакова: У меня на балконе есть ящик с землей, я там сажаю цветы. И вдруг у меня там выросли два подсолнуха, высокие, до следующего балкона. И у меня берут интервью и спрашивают: зачем я посадила их? А я их не сажала! А они: нет, скажите, зачем вам подсолнухи? Да не знаю я. Наверное, семечки попали.
(Играет этюд с полуоткрытой дверью.)
Юхананов: Ну что скажете, Лиечка?
Ахеджакова: Может и так... Знаете, в Тадж-Махале Васе Мищенко шестилетняя девочка предложила любовь.
Юхананов: Девочка предложила ему счастье. Это священное место сказало ему через девочку: живи не тайной жизнью и будешь счастлив. Ведь там, в Тадж-Махале, безобманное время.
Гвоздицкий: Что такое призрак?
Юхананов: Оба они опять натыкаются на смерть родителей — и на смерть как выход для них.
Гвоздицкий: Они боятся, что если кто-то уйдет, то, вернувшись, застанет другого застрелившимся. В Ленинграде был такой актер, у него были в Москве две тетки, которых нельзя было разорвать. Как-то они вдвоем поднялись на 16 этаж и прыгнули... от какой- то своей невозможности, я не знаю. Вдвоем, не по отдельности. Что же тогда движет Клэр, когда она просит убрать пистолет?
(Пробуют играть.)
Феличе: Выходи!
Клэр: Посмотри, есть ли...
Феличе: Никаких парней на улице нет!
Клэр: Можно мне шляпу-то поправить?
Феличе: Перестань заниматься ерундой. Ведь день-то не вечен, и ты это знаешь. Выходи! (Он толкает ее в открытую дверь. Она тихо вскрикивает. Он закрывает дверь и выходит, лицом к публике.)
Юхананов: Лия, до этого момента все ясно?
Ахеджакова: Что вы со мной, как со слабоумной.
Юхананов: Нет-нет, любая репетиция — это репетиция слабоумных.
(Читают.)
Клэр (шепотом): О Господи, не оставляй меня здесь одну!
Феличе: Только на секунду, на одну секунду. (Он идет за кулисы. Дверь освещается янтарным светом. Он возвращается, берет ее за руку и ведет вперед.) Какой прекрасный день!
Клэр: Да!
Феличе: Лучше и не придумаешь, если вообще можно придумывать дни.
Юхананов: Попробуйте рассказать, что вы здесь понимаете.
Гвоздицкий: Я ее бросил и стал замерзать. И вернулся назад. Первый раз в пьесе я ее бросаю.
Ахеджакова: Он же знает, что она сделает?
Гвоздицкий: Да.
Юхананов: Они сдались?
Гвоздицкий: Да, но я ее оставляю одну — с пистолетом. За эту секунду «нам стыдно смотреть друг другу в глаза».
Юхананов: Да... Теперь возникает золотой свет. Вы исчерпали все. Даже свет Бога. Это не-ве-ро-ятный момент!
Ахеджакова: Зритель ничего не поймет. Я уважаю зрителя и не хочу, чтобы он уходил. Нет ни одной дыры в России, и даже в Америке, где бы я ни была... Я знаю зрителя.
Юхананов: Вот теперь вы на самом деле заточены - вы в тюрьме. Но почему тюрьма озарена светом?
Ахеджакова, Гвоздицкий (вместе): Давайте перерыв устроим и поговорим о другом. (Пьют кофе.)
Юхананов: Я учился режиссуре у даунов, делал проект «Дауны комментируют мир». Знаете, эти дети наделены абсолютно невероятным сознанием. Как сказал Штайнер, у них завершенное моральное тело. У них такой точности язык, который трудно себе представить. «Не управляемый ни для кого» — можете себе вообразить такое определение Христа? Ну хорошо, к этому мы потом вернемся. Сейчас: тюрьма залита светом, зритель ушел. Давайте прочтем дальше.
Ахеджакова: Ребята, кончайте мне парить мозги. Зритель ничего не поймет.
Юхананов: А я говорю, что зритель ждет, когда в театре появится горячая поэзия... Во второй части, когда вы кладете пистолет, есть его финал, есть и ее финал. Есть чаемый вами, Витя, иной финал, где вы пройдете сквозь смерть. Но только ради нее. И вы устраиваете все так, чтобы Клэр тоже прошла сквозь эту смерть.
Ахеджакова: Ребята, почему булочки никто не ест? (Разбирают булочки.) В Оттаве площадь огорожена маленькими казармами, и в них живут бездомные кошки. А какая публика в Канаде! Вот такие букеты, овации - как будто в Пермь приехала! И зритель другой, не то что в Америке.
Гвоздицкий: Другой мир.
Ахеджакова: Другой...
Гвоздицкий: Почему я сюда прихожу? У меня ведь есть еще два спектакля в работе, проблемы с ногой, а я прусь сюда...
Юхананов: Витя, это ваш инстинкт самосохранения. Ведь вы претесь куда? Что такое для вас и для Лии — и для Феличе с Клэр — театр? Они же когда-то давно решились спастись при помощи театра для новой жизни. И что? Что они имеют? Произошла подмена, только и всего. Нельзя спастись при помощи театра. Спасение возможно только в театре, для театра, ради того подлинного, что они в себе ощущают.
Гвоздицкий: Я, Витя Гвоздицкий, должен взять и убить Лию Ахеджакову, а потом Витю Гвоздицкого... У меня есть дом в Плесе. По идее, мне надо уходить из театра, поселиться в Плесе.
Ахеджакова: Я ничего не понимаю... Что играть?
Юхананов: Лиечка...
Ахеджакова: Боря, вы талантливый, умный...
Юхананов: Лия, при чем здесь...
Ахеджакова: Я ни в чем не уверена. Я не знаю, в чем дело, в чем дело, Витя? Может, мы бездарны?
Гвоздицкий: Запишите, сегодня 19 марта. Если выйдет спектакль, Лия Меджидовна Ахеджакова будет играть гениально! Мне кажется, Боря, я понимаю, о чем вы. Если мы это разгребем, то... (Ахеджаковой) Забудьте, что вам неясно. Когда я был маленький, однажды, летом... Я стою, маленький мальчик, жизнь большая, день дли-и-инный... Какой-то лист с дерева упал. И я смотрю на лист на ладони и ничего не понимаю...