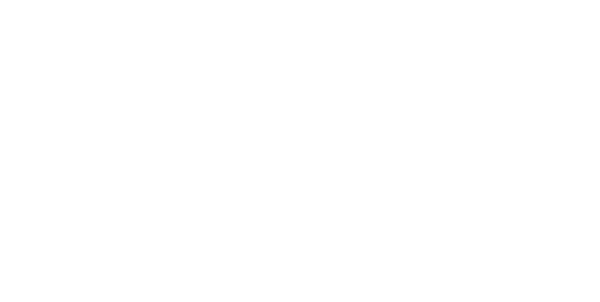– Может, свет включить?
– Да, вот свет.
Борис Юхананов: Значит, так. Мы сейчас отсчитаем… «Сфера» была в каком году?
Олег Хайбуллин: В 1991-м.
Б.Ю.: Вот. Это был июль?
О.Х.: Июль.
Б.Ю.: Июль. Конец июля 1991 года. А это?
О.Х.: 1996-й.
Б.Ю.: А не помнишь месяц?
О.Х.: Ну, это весна.
Б.Ю.: Весна, это… Весна 1996 года. К этому моменту «Сад» уже существует пять лет. Пять лет. Сегодня у вас на глазах он переживал свой «выход». Потому что на самом деле регенерация – это не то, чтобы обязательная игра. Дальше он выйдет в шестую регенерацию и обнаружит себя в театре «Школа драматического искусства», в бывшем кинотеатре «Уран». Еще не на Сретенке, не в новом здании, это еще старое здание. Там еще не состоялось никакой перемены, но оно уже было приспособлено Анатолием Александровичем Васильевым для театра. Более того, там шли уже репетиции, в театре. Театр Васильева жил уже в этом месте, и в это место, заранее, естественно, вошел и «Сад». Таким образом, мы встретились в этом пространстве.
«Сад» развернулся там с очень большим репертуаром. Там игрались «садовые» спектаклики, там игралась «Чайка». «Чайку» мне еще предстоит сложить, это очень важный спектакль, он игрался также в этом коробе, в этой итальянской коробке. И вот «Сад», взойдя там, довольно быстро, через некоторое время оттуда вышел. Не из-за каких-то ссор или катаклизмов, просто он двинулся дальше, он переместился в другие пространства. Тогда вообще уехал из России. Он уехал из России, и обнаружил себя в Киеве.
Вот всей этой кодлой он переместился в Киев. Там, в Киеве, он какое-то время жил, был, бытовал, вместе с тем, что образовал внутри и вокруг себя, вместе с моим товарищем, в каком-то смысле учеником, но уже не только моим, еще и Клима, Владом Троицким. «Крыша», в Киеве была «Крыша» («ДАХ», киевский Центр современного искусства – прим. ред.). И вот на крыше, которая висела в воздухе, там, в Киеве, «Сад» образовал свою базу, он стал там базироваться какое-то время, очень недолгое, и взошел шестой регенерацией.
Как вы знаете, регенерация означала полную перемену парадигмы разбора и структуры игры. Там, в шестой регенерации, он опять приобрел совершенно новые черты. Но так как он взошел в Киеве, он проникся Софией и всем тем сиреневым цветом, в котором купалась, возможно, не различая во многих людях своих, не различая самой себя, Украина… Парадокс заключался в том, что на крыше, там, в этой Украине всегда было небо, понимаете? Там вообще все прямые отношения были с небесными силами. И, надо признаться, никем не перекрытые. Вот насколько я знаю Украину, там все было открыто. В этом смысле, это чудесное пространство, где расцвел «Сад» особыми свойствами. И тоже очень хорошо. Именно шестая регенерация прекрасно снята, в невероятном качестве, куча камер, специальная запись звука. С нами была большая кодла наших друзей, вот детей, людей с даун-синдромом. Там мы развернулись по полной. Фрагменты этой полноты можно будет обнаружить в фильме, который называется «Да! Дауны…» В дадаистском фильме, естественно. Там, в этом фильме, есть фрагменты из шестой регенерации «Сада».
Вернувшись в Москву, «Сад» обнаружил себя в музее Высоцкого. С удивлением мы там оказались, в этом музее Высоцкого, среди бушующего фестиваля, который только что был и в Киеве. Он почему-то переместился теперь в Москву, и там мы оттягивались по полной тоже… Такой был невероятный фестиваль. Я больше таких не знаю, и никогда он не повторится. В этом фестивале участвовал Клим, Володя Берзин, Игорь Лысов, АЕСы. Самые разные, редко совмещающиеся в одной квартире или в одной компании люди. И все это там развернулось, и уже «Сад» – это был первый опыт восхождения перед зрителем пространства новых коммуникаций. Потому что кроме «Сада», огромного и тотального проекта, там, в этом пространстве, уже существовал проект «Дворец». И, кроме проекта «Дворец» и проекта «Сад», еще существовал проект, я не помню уже, какой… Нет, пожалуй, что вот эти два проекта, – эти два новомистериальных проекта, которые, в принципе, практически невозможно соединять – две новопроцессуальности. Вот они там соединились, как-то все это происходило. Я там уже перестал быть Гуманоидом Ивановым, я был Королем. Это очень опасное состояние сознания. Я там вершил разного рода дела. Например, я изгнал однажды зрителей из зала. Просто всех. Я вышел и изгнал их. Ну, из Дворца. Там были диалоги режиссеров о методе, вполне себе безумное занятие… И много другого. Помнишь, Клим, да? Вот.
Так в трудах, бдениях, заботах и радостях прошла седьмая регенерация «Сада», и он вышел на тему, о которой я говорил с вами вчера, «иметь или быть». Тема эта захлестнула «Сад» петлей своих каверз. «Иметь», как мы вчера говорили, «иметь» – это значит «не быть», «быть» – это значит «не иметь».
Возьмите во всей полноценности смыслов эту тему. А как вообще в «Саду» какая-то тема завелась? А никаких тем в «Саду» никогда не было, и в принципе «Сад»-то не собирался тематизировать свое пространство. Но дело в том, что на путях развития в переходе из шестой регенерации в седьмую, а потом уже из седьмой в восьмую этот переход и принял на себя тему – игра в реальность. А игры в «Саду» были очень разные. Была, например, игра в перевоплощения. Она возникла на путях третьей регенерации, и дальше развивалась в «Саду» с удовольствием.
Я вам уже сказал, что на самом деле на территорию, очерченную тремя кругами мистериального искусства, можно было выходить с разных кругов жизни – творческого круга, профессионального, жизнедеятельного. Вот там творилось очень много разных игр. Вы знакомы уже с игрой «Жанр», которая, естественно, тоже продолжалась. Она продолжалась все десятилетие, и достигла своего относительного такого… инстинкт выпростался по полной, она достигла какого-то даже совершенства. Практически каждый осенился стендап-поэзией, и в «Саду» вдруг оказалось, что мы вырастили, кроме всего прочего, еще огромные залежи сорняков-говорунов. Каждый там мог практически часами говорить на любую тему, увлекая за собой слушателей. Бедные эти слушатели из 1990-х! Куда их увлекла жизнь?! В нулевые. То есть произошло-таки тотальное обнуление нашего существования.
Так или иначе… Возникает «игра в перевоплощения». Простая такая игра-игла. Это не оговорка. Вот у меня есть поэма «Джихад жида», там это основная тема – игра-игла.
Так вот… что такое «игра в перевоплощения»? Это простая вещь. Намного более простая, чем для нас это было просто, чем, например, «садовые» спектакли. Это тоже игра, но она намного более, как сказать, трудная в воплощении. Игра в перевоплощения – это, когда не оставляя свою связь с аватарой или аватары с источником, Петя Трофимов или, например, Раневская, или кто-то другой, меняются ролями. И Петя ведет линию Раневской… Помните, в первой регенерации были арт-объекты от Пети, объекты акции, перформансы от Раневской, и так далее. И «Галерея-оранжерея», наполнилась вот этими предметами, этой энергией, этими церемониями и объектами, и связанным с этим перформативным полем. И там это было очень естественно, в моменты первой регенерации. А вот дальше эти игры приобрели уже совсем другой характер, потому что разыгрывался «Сад», а при этом он разыгрывался в стратегии, когда Раневская играла Дуняшу, Дуняша – Петю, и вот эти все перемены, они составляли волнение и трепет этих игр.
Одновременно с этим «Сад» изнемогал от необходимости развернуться в городе. Потому что он много с городом работал, и наконец, я уж не помню, на какой регенерации, возможно, на пятой или четвертой, «Сад» решил взойти перед городом огромной «садовой» программой. Для этого Гуманоид Иванов отправился на переговоры с папой Коли Каракаша, который в тот момент был директором «Манежа». Ни Колю я тогда, естественно, не знал, ни папу его. Я с ним прекрасно сговорился, и мы начали готовить семидневную программу «Сад», в которую входили фильмы, все игры (игра в «Жанр», «игра в перевоплощения») и множество «садовых» спектакликов, а также готовился потрясающий такой ландшафт «садовый», потому что все это уже мы называли пейзажным, ландшафтным театром. Его элементы вы можете увидеть и здесь.
Вот представьте себе, как живет пейзаж. Просто намек дам на это, и все. Откуда берется эта красота для взгляда? Она берется… Где-то там – помойка, и едет машина, восходит солнце, какая-то резервная группа людей совершает свое черное дело, то есть обворовывает какой-то ангар, еще что-то. Но все это вместе вписанное в природу, всегда почему-то оказывается ландшафтом. И как только это оказывается пейзажем или ландшафтом, это оказывается театром. Вот так организованный театр. Это не симультанное действие, это иной образ театра. Вот мы его раскрывали и собирались раскрыть еще и в линеарной последовательности семи дней, и тем самым как бы различить универсальный искус, который был заложен в этом проекте.
Прошло три встречи, четвертая не состоялась. В «Манеж» вошел Березовский. Он вошел вместе с огромной автомобильной компанией, полностью зафрахтовав «Манеж» на долгое и печально завершившееся время. «Сад» отступил и отправился в пятую регенерацию, проглотив полгода своей работы.
Что-то всегда сопутствовало «Саду», и сопутствует ему и сейчас, какой-то особого рода сопровождающий его оберег, который запрещал ему появляться прилюдно. То есть в этом смысле вы не люди. Да. Случайные путешественники, туристы, как теперь говорят. Так или иначе, мы отправились в «быть и иметь», потому что у нас была еще одна игра, вернее система игр. Она называлась «игры в реальность». «Сад» увлекся реальностью. Он увлекался все время, все более и более, и ему стало очень интересно обнаружить… мы настолько уже были в «Саду», что реальность казалась очень далекой. Иногда возникало подозрение, что она недостижима, что мы уже никогда в нее не вернемся. Ведь шел уже там восьмой или девятый год нашего удаления от мира. И мы решили эту реальность объединить. «Игры в реальность» всегда были в «Саду», они возникали, уходили, они приобретали разные черты и часто намекали на разные способы существования театра. Но здесь мы решили подчинить ее единой логике, и мы разобрали «Сад» как реальность. И вот тогда появилась необходимость темы.
Как только появилась необходимость темы, тема пришла к нам. Она ворвалась в наши души, и я уже произнес ее краткую формулу – так иметь все-таки или быть? Но «Сад» остался «Садом», а стратегия, которая сопровождала нашу «садовую» жизнь, заключалась в снятии оппозиции, а не в разыгрывании их. Поэтому мы решили эту оппозицию снять там, где «Сад» и разыграть там, где «игра в реальность». То есть на мистериальном уровне мы двигались путем снятия этой оппозиции. Мы хотели обнаружить территорию, где можно и иметь, и быть. Иметь – это значит иметь собственную жизнь во всех радостях, в которых она представлена на земле, в деньгах и в любви, в семье, если захочется человеку, и в работе, в приключениях обеспеченной и благоприятной жизни. Все это манило, соблазняло «Сад» и каждого человека в реальности. Реальность была на самом деле нацелена на это, так как мы слышали ее подводные ходы. И в то же время надо быть, а бытие не связано напрямую с этими аспектами реальности. Оно может пронизать их, и тогда одарить их подлинным счастьем, но, если оно уйдет из этих аспектов реальности, счастье окажется недостижимым, и «Сад» не сможет тогда принять это в себя. Понятна вот эта мысль? Как-то я ее витиевато выразил.
Понимаете, да, что быть счастливым в благе реальности невозможно, если туда не прибудет само по себе счастье. А счастье – это уже бытие, и это бытие, где полностью разворачивается свободная жизнь души, духа, любви и всего, из чего состоит сознание. Понимаете, да? Так вот этот конфликт бытия с «имением», а «имение» не просто так, это имение… Имение-то осталось, и оно тоже есть, и оно тоже вечное, это имение. И так далее. Вспомните «место», «имение», «местоимение», и тому подобные вещи, связанные с похищением имени.
Так или иначе, это вот «иметь и быть», «быть или иметь» надо было преодолеть. И быть, и иметь. В «Саду». И мы нацелились туда при помощи особого рода механизма, который я назвал ВПЦ – внутренний продюсерский центр. Мы стали выращивать в «Саду» ВПЦ, внутренний продюсерский центр.
Этому была посвящена специальная концентрация нашего осознания реальности, действительности. И если не вырастить ВПЦ, снять оппозицию между имением и бытием невозможно. Это сложная работа, в которую в середине 1990-х годов те, кто различил ее необходимость для себя, отправились. Я имею в виду «садовых» существ. Мы отправились в эту работу. А там, где мы планировали игру и территорию игры в реальность, там была тема, и она давала возможность озариться конфликтам нового типа и всячески с ними работать.
Таким образом, возникла восьмая регенерация, которую вы в этом месяце уже не увидите. Только в декабре, после того, как я покажу фильм «Да! Дауны…», поговорю об этом проекте, ещё одном проекте, который тоже был новопроцессуальным, но другим. Вот вы видели пятую регенерацию – это первый момент встречи двух проектных территорий, конечно, специальным образом подготовленный, все мы с этим работали. Встретились два проекта: «Дауны комментируют мир» и «Сад». И вот они, оба эти проекта, вошли друг в друга, и возникла возможность восхождения перед городом пятой регенерации.
Вот, собственно, всё, что я хотел вам сказать. Мне, конечно, было бы интересно вас послушать. Если у вас возникли какие-то размышления или вопросы, или ещё чего-нибудь, ну, может, вы хотите поделиться, совершить какой-то акт такой публичной медитации на тему вами сейчас проведённого времени – я, с удовольствием это всё зафиксирую в прямой трансляции по Интернету на десятки тысяч смотрящих нас человек. На всякий случай, я вас предупреждаю. Это длилось все три ночи. Испугались? А мне каково?
Гера!
Я хочу, пока Гера готовится, пытается дойти до своего места – вот он уже почти дошёл, почти сел – я хочу сказать нашим интернет-зрителям. Дорогие интернет-зрители! Я вас очень хорошо понимаю, я с вами. Если б мне не нужно было быть здесь, я сидел бы у себя дома или там с друзьями, выпивал и смотрел бы на всё это безобразие, чувствуя абсолютную свою защищённость от этого. Но вдобавок ко всему, у вас бы ещё просили прощения приблизительно в таком духе. Это вообще совсем уж такое наглое сибаритство, понимаете? Поэтому извините, у нас сегодня сорвалась трансляция самого фильма-спектакля пятой регенерации, как всегда по чьей-то вине. А чьей – я не знаю. Вполне возможно, это темпоральные каверзы, или вообще во всем виноват Сад. Сад.
Мы обнаружили его как живое существо ещё на территории третьей регенерации. Он вначале делал вид, что он идея о Саде, а потом по полной стал уже живым существом. Я вам говорил, он любил играть… У него, например, была такая игра в реальность, он любил собой жертвовать. Знаете, как (неразб.) или Осирис, – умирать и возрождаться. А каково живущим в нём людям, садовым существам? Для них-то это реальность. Это только для него игра.
Я вспоминал об этом, о мифе о Мишке – сказка о Мишке. Ёжики живут на Мишке, и Мишка… Они там очень игривые, ёжики, они живут, и они катаются по Мишке. То есть Мишка проникся игрой ёжиков и тоже решил покататься по земле. И тут у ёжиков настал апокалипсис.
То есть, когда с вами начинают играть Сад или Мишка, будьте готовы к четвёртому акту «Вишнёвого сада».
Итак… Поэтому прощу прощения. Мы это загладим таким образом: на сайте, буквально через историческую секунду, который называется borisyukhananov.ru, появится пятая регенерация «Сада» – смотрите себе, сколько влезет, мне не жалко.
Гера, тебе слово.
ГЕРА ГРИЩЕНКОВ: Спасибо! Ну то, что я скажу, – это, наверное, не комментарий, а скорее мне захотелось поделиться тем процессом восприятия происходящего, ну, какими-то его точками, по которым оно шло. Вот. Прежде всего, когда началось… Я же на самом деле познакомился с этим проектом вчера. Я не видел до этого вот эти материалы. Я увидел «Сферу», первую регенерацию «Сада», и вот сегодня увидел пятую. И первая была, в открытом пространстве, без зрителей, а здесь уже процесс как бы театральный, привнесённый в театральное пространство, в зрителей, и вот…
Например, первый момент, на который я обратил внимание, – мне стало интересно, что будет происходить вот с той энергией, которую я отметил. С энергией «Сферы», которую я характеризовал, как энергия… Она идёт и сквозь людей, и она не останавливается в человеке… через человека, через стены этого дома, через стены этого Сада, идёт дальше. И я делюсь своим образом света потухшей звезды. И здесь вот этот момент тоже казался преодолённым. Вроде бы это было помещено в театральное пространство в момент какой-то репрезентации – на зрителя. Но свойства энергии остались те же. Ну вот это первое, что я отметил.
И тогда я задался… Да, и во мне возникали попутно вопросы, что я смотрю, какова позиция зрителя здесь. Потому что это, на мой взгляд, не тот тип театра, который… театр удовлетворения, так можно сказать, где можно идентифицироваться с происходящим или можно… здесь возникают какие-то эмоции. Это какой-то другой тип действия.
И мы… как бы шли какие-то вот наблюдения и мысли. Вот, например, я думал о том, что этот мир очень гармоничен внутри. Вот этот мир. И притом, что речь шла о чётких границах – Сад возможен, постольку-поскольку вот он очерчен, и за его пределами город. Но внутри было ощущение, что этих границ не видно, границ этого мира. И он просто из себя являет. И я задавался вопросом, ну, а что тогда происходит? Они транслируют этот мир, они его являют. Он являет себя. Но что это в контексте, в понимании театра, в присутствии при этом? Вот я продолжал задаваться этим вопросом. И подумал, а может быть это ландшафтный театр, где я наблюдаю вот этот ландшафт. Но и возникает ощущение, что нет – это не ландшафтный театр, поскольку свойства энергии, которые ощущаются как некое общее движение, иные. Есть ощущение, что это движется, движется в определённом направлении.
И вот в момент, когда это осознаёшь, то словно мистериальное, оно как бы прикасается. Можно ощутить его прикосновение.
И тогда я задался вопросом, раз это движется, то что же может произойти, если этот мир очень гармоничен? И что может произойти? И тогда возвращается образ границы, идея границы. Потому что понятно, что угроза может прийти только извне. И раз она может прийти только извне, эти границы как бы прибывают сразу. И тогда… и при этом сразу же возникает вопрос, а где теперь они располагаются? Они располагаются в моём сознании, в моей душе, они располагаются в воздухе? Ну вот где они располагаются, это становится неочевидно, неясно.
И я бы даже задавался… и я попытался представить, а могу ли я, например, вот с ними заговорить, сказать им что-то или спросить? Нет, я не могу, поскольку я – город. И в этом смысле я не могу их потревожить, я не могу туда заступить, я не могу зайти. И, может быть, я могу только как перебежчик там оказаться, отказавшись от города, как бы пробежавшись, сесть туда, выучить другой язык – язык в широком понимании, не только в лингвистическом.
А потом вот произошли две сцены с Ермолаем, и сразу стало очевидно, что что-то с миром произошло, и это необратимо. И в этот самый момент я как бы сквозь это действие увидел их предыдущую жизнь, их первую генерацию. Вот тот кадр, где они покидают дом. Как они уходят. И это снова прикосновение мистериального, и одновременно какая-то вот эта вот идея регенерации, реинкарнации, как вот ещё можно. Она тоже себя являет в этот момент. Потому что это видно сквозь – одно сквозь другое становится видно.
И дальше я задаю себе вопрос, ну что же я теперь наблюдаю? И дальше я наблюдаю этот уход, который просто длится, как воздух… я подумал: «Как воздух, который уходит из шара». И в этом смысле здесь стало уходить то, что… вот это привело к тому, что в третьей части, и привело к тому, что сдулись конструкции надувные.
Б.Ю.: А в третьей части их впервые проткнули.
Г.Г.: Да-да, а уходить-то оно стало в первой. Ну я рассказываю о своём, да, вот этом восприятии.
И завершилась первая часть… ну, для меня это были три части – как-то так структурировано. Для меня было три части. И завершилась первая часть, когда аплодисменты, и как бы граница этих двух миров прорывается. И у меня возник образ… почему-то возникло слово «эмигранты» в этот момент. Потому что словно они покинули… потому что что-то уходило. Непонятно, что уходило. И в финале первой части было ощущение, что это они ушли оттуда и пришли в эту реальность, в город, и они здесь эмигранты. И она на этом заканчивается, первая часть. Вот так.
Б.Ю.: Первая часть – это когда вы пошли на перерыв?
Г.Г.: Да. Я могу прокомментировать остальные тоже.
Б.Ю.: Да.
Г.Г.: Когда началась вторая часть, было очевидно, что принципиально поменялся мир, и я думал, что это? Первый образ был – словно эти мигранты, бродячие артисты, они садовые существа, но они в мире людей должны как-то продолжать свой путь, и они, как рыбы без воздуха, или как существа, которые вынуждены дышать тем воздухом, иным воздухом, не своим воздухом. Я задался вопросом, что же это тогда такое – вторая длинная часть? Это словно константа… мы видим отравление, ну я так понимал… для меня это было отравление. Оно длилось, но это было отравление этих существ.
И где-то с середины я подумал: «Ну не обязательно, что это они пришли сюда, можно это увидеть и как то, что этот мир вошёл в их мир…» Это стало одним процессом для них. В моём понимании.
Тут проходили как бы три разных смерти… или стадии. И вообще, в первой части я услышал это как мистерию смерти, но освещённую светом. Такой образ у меня возник.
И вот закончилась вторая часть, тоже каким-то финалом своим, внутри этой стадии.
А третья часть, когда она началась, я думаю, а что же это? Она началась так, как будто бы это классический чеховский спектакль, классический чеховский финал. С атмосферы чеховского спектакля, пьесы, которую мы очень хорошо знаем. Спектакля, который как будто бы и живёт уже в нас. И благодаря традиции. Вот – чемоданы, все сидят… будто картина. Потом это взрывается Олегом (Петей), каким-то бунтом, по сути.
Б.Ю.: Угадайте, сколько дней мы репетировали с ним эту истерику? Правда? Олег, сколько? Я не помню.
О.Х.: Сколько лет?!
Б.Ю.: Да, сколько лет! Он мог в любой момент это запустить. И когда я попросил Олега в этой точке, в этот момент запустить истерику, никто не представлял, что в этот момент дочь Олега, наша любимая Анечка Хайбуллина, которая здесь, в этом театре, творит своё доброе дело во всём цвете её дарования и красоты, она случайно заплакала, как бы почувствовав назревающий в папе узел игры. И это так красиво. Её обнял Лопахин… вы видели, да, нежно и хорошо. И Анечка заплакала. И папа, обязанный истериковать, вместо того, чтобы унять своего ребёнка, продолжил… получилось, что он подхватил её плач. Вот. То есть случайным здесь был плач ребёнка. Это не ставится, естественно – никто его не может запрограммировать. Не случайно была ею же рассказанная сказка, вот, и истерика Олега.
Извини, что я перебил.
Г.Г.: Да. Ну, в принципе, я практически подошёл к завершению этого своего высказывания.
И думая о третьей части, я думал, словно это третий круг, третья стадия ухода уже, как будто бы вот они, проходя… они ушли в первой части и вступили в какую-то вторую, прошли сквозь неё и ушли, и в третьей части словно они подступили к самим страницам текста. И как бы просто уже и попрощавшись с ним, и подступив вот прямо к ним. И прошли дальше. Ну то есть это и как композиция красиво.
Б.Ю.: Я тебе очень благодарен. Очень тонкое и глубокое, и точное, на мой взгляд, восприятие. Какими-то другими словами ты рассказываешь всё это.
– Борис Юрьевич, можно микрофон?
Б.Ю.: Это было очень красиво, и я рад, что такого рода восприятия созревают в нашем путешествии. Похоже, что в этом путешествии могут выращиваться восприятия. Это само по себе очень правильно. Может быть, такого рода путешествия и есть «садовая» территория, где могут в культуре выращиваться восприятия, что само по себе тоже интересно.
Аллочка.
АЛЛА КАЗАКОВА: Да. Я по своему обыкновению тоже скажу. Для меня этот спектакль сейчас разделился на две части – до перерыва и после перерыва. И вот до перерыва, я как будто бы очень много ожидала от этого спектакля, почему-то. Потому что я же видела вот в фильме («Сфера» – прим. ред.) – в «Доме» – и в «Доме», на природе, я видела ещё молодых людей, которые ещё с книгами… Они пытаются с этим текстом как-то разбираться, друг с другом разбираться. То есть какой-то иметь ещё конфликт там, какую-то любовь друг к другу там, мизансцены такие человеческие.
И мне понравилось то, что они, молодёжь, в этом старом доме пытаются играть в Чехова. Я это почувствовала. Вот эта молодёжь 90-х или 80-х, по-моему…
Столько было уже сыграно, переиграно Чехова. А это что-то совсем, другое – самолёты, своё отношение, какая-то дистанция и так далее, и так далее. И вообще, то что это на природе, в лесу. Мне это очень понравилось. Я подумала, может, даже и зритель быть на природе. То есть это игра прямо в доме. Но это неважно.
И почему-то я думала, что это все перейдёт в следующий спектакль. Хотя я теперь понимаю, что если у вас несколько спектаклей бы было «Сада», то, действительно, там могли быть разные темы, как вы сказали, и подходы, может быть, даже разные, и присутствие разное, и качества какие-то разные.
Потому что первые два акта мне было тяжело смотреть. То есть я понимала, что… то есть что я увидела? Я увидела то, что, могла бы быть эта история с «Садом», до них, до этих людей, то есть история этих персонажей, такая реальная история, которая была прожита. А тут пришли, значит, такие некие насекомые, или какие-то существа, или же это бродячие артисты, как сказал Гера – то есть у меня тоже был тот же образ. Вот есть такие артисты площадные, которые ездят, балаганчик такой. Которые разыгрывают этот текст, даже не думая, в общем-то, что там может быть в этом тексте. А они его разыгрывают, потому что это им нравится так говорить, как будто бы у них есть такие некие качества. То есть они как будто бы саму даже сцену даже не затрагивают. То есть как бы она в них не входит. И они… не знаю, они… Вот как, если бы насекомые… все уехали, эта история уже произошла и вдруг в мире насекомых, каких-то существ… они вдруг захотели эту историю повторить. Но они не знают, как, они же не чувствуют этих чувств. И они на всю катушку начинают эту историю друг на друга как-то разыгрывать. Но долго это смотреть, потому что это одно и то же… одно и то же качество практически.
Это наполненное звуками пространство, хотя я понимаю, что это Сад, и он всегда должен звучать, он не может быть в полной тишине – в Саду не бывает полной тишины. Но когда я смотрю, мне хочется тишины. Потому что я привыкла к такому театру, когда говорит один, говорит другой, и у них есть среда, паузы между друг другом… и так далее. А тут всё наполнено звуками, какими-то движениями параллельными. Люди говорят, это куда-то движется, как если бы каждый… каждый находился в творческом акте. И каждый это всё дело делает.
И вот от этой как бы какофонии всего – и звуков, и присутствия такого качества – ты вдруг начинаешь… я вдруг начала уставать. Ну как бы… я не понимаю за чем мне следить. То есть я вижу какую-то хаотичность.
Потом случился перерыв, и вот после перерыва я увидела вот этих людей –даунов. И они абсолютно искренне… было очень интересно их слушать. Абсолютно искренне они начали рассказывать эту историю, как человеческую, то есть как то, что они реально видят, как то, во что они реально верят. Ни про каких-то насекомых, а про людей. Причём про реальных людей, которые их трогают, как реальные люди, то есть они за них переживают. И это чувство, конечно, сразу трогает. Ты подключаешься к этому. Они совершенно светлые существа, чистейшие. И вот из чистейшего сердца они рассказывают об этих персонажах. И дальше я как-то больше их стала замечать в спектакле.
Мне понравилось окончание первых двух актов. Это окончание, где была речь «солнечного» человека про театр. То есть его присутствие в спектакле отличалось как бы от актёрства, от других актёров. Он искренне там присутствует, то есть он верит в то, что он говорит. И то, что он говорит, он и есть то, что он говорит. Вот, он не придуривается.
Дальше, в третьем, четвёртом актах… Получается, в третьем акте, когда они ожидают решения и Лопахина ждут, там в пьесе происходит такой концерт, как бы все ожидают, и достаточно весело они у Чехова ожидают. У вас тоже это было: там Шарлотта действует, своими номерами, с песней. И вообще мне песни понравились все… когда человек начинает петь сам, и почему-то он в песне… я больше ему доверяла, когда человек поёт.
И дальше, что произошло? Вот после того, когда вступили «солнечные» люди…
(Перерыв в записи.)
То есть эти существа, они больше стали людьми. Они стали больше людьми. Как если бы эта история стала на них так действовать, сама уже эта история, или это пространство, или то, что получилось… У них изменилось качество. Вообще присутствие качества.
Когда вы говорите, что в первых двух актах была снята вот эта конфликтность, а потом получилось, что они потеряли Сад, когда Лопахин купил этот Сад, то, на самом деле, сама история мифическим образом начала действовать так, что они что-то потеряли. Что-то такое произошло. И вот этот момент с плачущей… то, что всё время стала бегать девочка, то есть она стала больше появляться. И появилась реальная среда людей, которая там живёт. И я стала смотреть, наблюдать за ними уже как… как сказать… они все объединены чем-то одним. То есть вот что-то их объединило, и они стали друг друга уже больше слушать, они стали иначе слушать друг друга, стали иначе говорить.
И уже в четвёртом акте, в отъезде, который всех объединил, где появилась эта атмосфера чеховская, – это то, что как раз должно быть в Чехове. И это стало очень трогать как-то. И вот эти люди, дауны, они подходили к ним, разговаривали периодически с персонажами, и персонажи, уже люди их слушали, персонажи, как люди, а не как существа, которых им приходилось играть, то есть изображать из себя этих существ. И меня, кстати, это сначала напрягало, что они это показывают. И даже Олег – мой любимый в этих всех фильмах. Когда он начинал больше показывать это существо, как бы меня это больше коробило как раз. Но, а потом, когда он стал человеком, даже с этой истерикой, когда он вдруг это всё оставил, это стало сильным. Ну то есть…
Б.Ю.: Можно присоединюсь?
А.К.: Да.
Б.Ю.: Спасибо, во-первых, за то, что говоришь. Просто Шёнберг вернулся в Малера, понимаешь. Ты вначале встретилась как малерианка. А я сейчас по-другому расскажу. Малер чем плох? Он отличный композитор, замечательный. Последний человек, который эксплуатировал 80 музыкантов, или даже 180 – я сейчас не готов. Малер и Шёнберг – между ними, предположим, как и между Шёнбергом, например, и дальше уже Штокхаузеном, между Штокхаузеном и уже нашими ребятами, которые тут точат ножи для изменения будущего – типа там Широкого, Курляндского... Ну Федю я бы не отнёс к бандитским вот этим объединениям, Федя Сафронов – нормальный человек, он с теми, кто сохранил в себе остатки интеллигенции. То есть он и с Шёнбергом… Вот, остальные нет. Они уже неоатональщики и вообще.
А так как первая часть – это и есть музыка, это Чехов, данный в тактике музыки, там вообще нет кривляний, естественно. Я просто хотел тебе сказать, тут вообще нет попытки что-либо изобразить. В этом смысле мы выслушали два потрясающих монолога. В одном была горечь утраты мистерии, а в другом – радость обретения спектакля. И они удивительным образом встретились друг с другом, понимаете. Хотя всё это время, как сказать, происходило одно и то же. В каком-то смысле. То есть шла мистерия, излучая то одни, то другие свои свойства, отдавая, в общем, их немного, но достаточно для того, чтобы это выдержал тот момент, в котором она раскрывалась. Я чувствую, Клим что-то хочет сказать.
КЛИМ: Если я скажу, то только матом.
Б.Ю.: А?
КЛИМ: Если я скажу, то только матом.
Б.Ю.: Да пусть говорит матом, это же прекрасно. У нас же там была истерика. Никто на тебя не обидится, Клим, ты добрейший маг из всех магов, мне известных.
КЛИМ: Ну, я хочу сказать, что, поскольку я был на этом спектакле, я это видел.
Б.Ю.: Клим – свидетель.
КЛИМ: Я это видел. И это был спектакль, на котором я на 15-й минуте начал плакать, и плакал все остальные 4 часа. Я плакал все остальные 4 часа. Это единственный спектакль, в котором был Чехов, а не та х…я, б…ь, которую вы называете Чеховым.
Б.Ю.: Давай, Клим.
КЛИМ: Б…ь, х…я! Больной человек, понимаете, больной, умирающий человек, знающий о жизни всё, а вы его изображаете, б…ь, как бы бабы в 1943 году разрешение Сталина, начали рассказывать, какая, б…ь, хорошая жизнь была до революции. Понимаете? Если бы, б…ь, хорошая жизнь была, революции бы не было.
Б.Ю.: Факт.
КЛИМ: Конечно, мне… Это удивительно, понимаешь. Я при девушке, я не знаю… Я думаю, что она артистка. Б…ь. Б…ь. Артистка.
Б.Ю.: Ну, ты на Аллу не нападай. Она не артистка, она просто замужняя дама.
КЛИМ: Ну, я не знаю.
Б.Ю.: …ненароком зашла.
КЛИМ: Понимаете, вопрос заключается в том, что, конечно, это абсолютно разный мир, конечно… В «Саду» – это одна сторона. Понятно, что вы уже живёте в другом мире. И мир этот не передаётся. Это был некий очень особый мир, особое состояние мира, которое транслировало, и действие было прямое. Понимаете, оно было лишено, оно было лишено вот этого представления, понимаете, о театре. Вы представляете, что происходило? Если бы вы хоть чуть-чуть, понимаете, побыли во временах, когда царь устраивал великие шоу. Вот это она так и выглядела до революции, жизнь. Вот они такой хернёй и занимались: кокаином и ещё чем-то. Все были в долгах, ни хрена не делали. Вы знаете, сколько у неё земли было? Сколько этот сад представлял, что собой представлял сад? До горизонта. Сад живёт 15 лет. То есть это просто брёвна. И если там можно было найти один цветочек, то можно было найти один цветочек. Теперь вы рассуждаете, театр – это не театр. Конечно, это трудно объяснить, потому что театр, конечно, не передаётся. Я сижу и рассуждаю, да. Правильно, как говорил Боря – между Малером и кем еще есть эта разница, да. Это уникальный... Сейчас этого сделать нельзя. Нельзя, просто нельзя. То есть мы не можем обрести этого взгляда друга на друга, мы не можем обрести этой любви… Вообще мы ничего этого не можем. Вот это мы и имеем. А слово «иметь» в русском языке ещё имеет что-то. Но если мы что-то имеем, то и нас имеют. Как говорит Василий Иванович: «Но есть нюанс. Петька, есть нюанс». И в этом смысле, понимаете, это все почти невозможно… Но, я не понимаю, как вы это воспринимаете, потому что вы живёте абсолютно в другом мире. То есть нам, наверное, повезло. Я смотрел и думал, всё-таки нам повезло. Когда энергия шла прямо, понимаете? Шла прямо. А не про то, что вы рассказываете про каких-то чеховских героев. Да пошли вы в жопу со своими представлениями о Чехове!
А. К.: Ну у вас же тоже есть свои представления.
Б.Ю.: Отдайте микрофон Алле.
КЛИМ: Всё понятно. Комментариев быть не может. Понимаете, потому что это понятно, что есть эта разница между людьми театра, да – театра. И там очень классно ты сказал про тему. Тема играется. То есть как только появилась тема, она играется. Что значит «играется»? Она не играется больше всем своим существом. Тема это… Понимаете? Дело в том, что мы как бы перестали воспринимать театр, искусство всем своим существом. А всё-таки играем в него. Мы играем в театре. Я не понимаю, как это достигать, чтобы этого не было.
Понимаете, как вам сказать, каких-нибудь там, я не знаю, четыре парня из Ливерпуля написали больше великих мелодий, чем вся мировая культура до них. Понимаете, это же не от них зависело. Так случилось. Время решило. Умение различать, да, различать. Как если вы смотрите фильмы Кассаветиса, да, то вы очень… есть тонкость, понимаете. Если спросят про американское кино, – то это Кассаветис. Почему? Потому что в нём, в его фильмах есть то, чего нет потом. Потом – в единицах. Потом в единицах. Это драма.
Я жёстко говорю, да, но это на самом деле драма жизни нашей. Потому что мы же живём жизнь, и вроде как служим искусству, а потом оказывается, что всё, что мы делаем – просто какая-то хрень. И даже не можем себе задать вопрос. Потому что если мы зададим вопрос, то мы станем перед неким выбором: «А чем я занимаюсь?» Возникает страшный вопрос: «А чем я занимаюсь?» Я спросил у одного человека, что такое вера. Он говорит: «Это то, за что я могу умереть, не задумываясь». Сейчас как бы и нет этого чувства – я могу умереть, не задумываясь… Я понимаю, что есть профессиональное… В моем понимании «профессиональное» – это человек, получающий за это деньги, у меня есть одно определение профессионализма. Когда мне говорят слово «профессионализм», я просто зверею. Б…ь, вот это окончивший какую-нибудь, б…ь, х…ю театральную, б…ь, два слова не в состоянии сказать, и называется это, б…ь… «Он профессионал или нет?» – «А что значит? Ну, окончил театральный институт». Говорила моя мама, «ходил 10 лет». Не говорите, что окончили – ходил 10 лет.
И поэтому – умение различать эту энергию истинности. Потому что она настолько соответствовала той энергии, в которой жил Чехов, а не той, о которой нам в 1943 году с разрешения Сталина было рассказано. Вы знаете, сколько Чехова не играли? После революции вообще не играли, потом Сталин разрешил.
Вот вопрос-то. Я почему так жёстко говорю, потому это как бы… ваша драма. Вы не слышите ни хрена.
А. К.: Послушайте, вы знаете… Вы извините меня, пожалуйста…
КЛИМ: Нет, я не извиню.
А. К.: Я не та девушка, которая просто закончила институт, и вот сейчас…
Б.Ю.: Дайте Алле микрофон, что ли.
А. К.: Мне уже немало лет, на самом деле.
КЛИМ: Да мне плевать, хоть вам сто лет! Мне плевать. Я слышал ваши слова.
А. К.: Не грубите.
КЛИМ: Вы не различаете. А раз вы не различаете – это проблема.
А. К.: Я тоже играла Чехова. Я тоже играла Чехова. И я тоже понимаю что-то про энергии. Я тоже понимаю.
КЛИМ: Так, послушайте меня… Это же, понимаете – и замечательно. И замечательно.
А. К.: Почему вы… Почему я не могу… как бы, так сказать… я тоже играла Чехова.
КЛИМ: Подождите.
А. К.: Я играла Чехова у Анатолия Александровича. И мы играли прекрасно! И вы не можете меня упрекнуть сейчас в том, что я, например, не знаю, как вообще это делается, что такое энергии чеховские.
КЛИМ: Послушайте, кто-то знает, как это делается?
А. К.: Почему вы думаете, что…
КЛИМ: Я хочу посмотреть на человека, который знает, как это делается. Так в том-то и вопрос, что искусство там, где не знаешь, как это делается.
А. К.: Но всё равно же как-то мы делаем. Как-то мы делаем.
КЛИМ: Вот, хорошие слова.
А. К.: Да, мы как-то делаем. Хорошо, плохо – я не знаю.
КЛИМ: Вы как-то это делаете. Это вопрос не как вы делаете, а как живёте. А не как вы делаете. Может быть, я жёстко говорю, но если говорить, то нужно говорить так, как оно есть, понимаете. Говорить так, как есть.
А. К.: Чехов бывает разный. И жизнь на сцене, и энергии бывают разные, понимаете.
КЛИМ: «Чехов бывает разный» – это как сказать, что Бог бывает разный.
А. К.: И формы бывают разные.
КЛИМ: Ради бога. Конечно.
А. К.: И если энергия живая, если вообще что-то живое подали на сцене, это может быть под любой формой и личиной, в любой форме.
КЛИМ: Замечательно – «форма», «личина». Вот очень замечательная картина.
А. К.: Ну я, может быть, не могу так сказать…
КЛИМ: А плохо, что не умеете. Человек говорит настолько, насколько умеет.
А. К.: Ну, вы тоже не точны.
КЛИМ: Я? Конечно. Так в этом-то и вопрос, что я не точен. И меня убивает ваша точность. Я поэтому и завёлся, от вашей точности.
– Браво.
КЛИМ: Я завёлся от вашей точности.
Б.Ю.: Знаете, что? Вот я, например, очень люблю Аллу. Я очень люблю Клима. Любовь моя в этой птичьей схватке усилилась. Аллочку – потому что она, конечно, душа прекрасная, и актриса замечательная. И Климушку, который прекрасный режиссёр.
В принципе, всю мою юность режиссёр с актрисой говорили приблизительно так. Это любовь. А потом что-то случилось во времени. Они перестали орать друг на друга. Возникли профсоюзы, возникла какая-то рамка, возникли какие-то новые правила разговора актрисы с режиссёром. Это благословенное, чернозёмное поле, где вначале орут, а потом вместе любят свою профессию, оно изменилось, это поле. И я перестал слышать эти благословенные столкновения на территории, в принципе, мало относящейся к жизни. О чём они спорили? По поводу чего? О каком-то театре, понимаете. Тут революция на носу. Это красиво.
Это и есть такое ландшафтное путешествие, понимаете. Это как Алексей Фёдорович Лосев бил палкой. Когда я был маленький, я ходил в университет слушать его лекции. Он бил палкой в пол и кричал: «А если кто-нибудь не понимает этой античности, тому нет там места». Какого места, в какой античности требовал лишить Лосев, каких студентов? Когда все они сидели в советской аудитории московского университета, и как бы слушали его, правда, с большим удовольствием, но из какой-то такой дали. Брежневской дали. И вдруг их лишили места в античности.
Друзья, я думаю, что… Сейчас который час? Второй или третий? А?
– Одиннадцать ровно.
Б.Ю.: Одиннадцать. Ну что? Завершим наш разговор, да? Хорошо. Хорошо, он красивый был. В этом разговоре было такое пение. Не пение, а какое-то такое медитативное… медитация Герочки, человека абсолютно нового времени, вообще из другого времени, он не участвовал в сварах, в прекрасных благословенных сварах, где прячутся корни нашей любви к театру. Гера рассказал историю, потом Алла развернула её и рассказала про конец и начало. Гера рассказал про начало и концы, а Клим по этому поводу прекраснейшим образом повоевал. Он предложил нам на всё это посмотреть с точки зрения истории войны, в которой таится, как сказать, огромное происшествие мира. И мы туда, собственно, и направились.
Спасибо вам. На этом трёхдневное путешествие завершается, и мы через паузу, приблизительно величиной чуть меньше месяца, завершим всё путешествие, связанное с «Садом», и переместимся в «Фауста», который произойдёт в следующем году. И именно «Фаустом» мы завершим Архивирование будущего на первом цикле этого проекта. Спасибо вам, ребятки!
Вера Павловна: Если всё время расценивать, как спираль сквозь века, то вот этот резон, который сказан в последних кадрах фильма, он как бы подчёркивает эту спираль и этот сегодняшний день, завтрашний день, прошедший день…
– В микрофон говорите.
Б.Ю.: В микрофон говорите, в микрофон.
Вера Павловна: Если всё время расценивать, как спираль, то этот ребёнок, который появился в последних кадрах, он как бы подчёркивает эту спиралевидность времени. И многие нереальные существа, которые как бы, ну может быть, из космоса, может быть, отсюда, может быть, из вчерашнего времени, может быть, из завтрашнего времени. И этот ребёнок, который в совершенно другом костюме, который нереальный, он подчёркивает эту спиралевидность времени. 100 лет – один виток, 100 лет – второй виток, 100 лет – третий виток. А люди-то остаются теми же самыми, и страсти человеческие проходят сквозь века, как Мольер, Шекспир и все остальные.