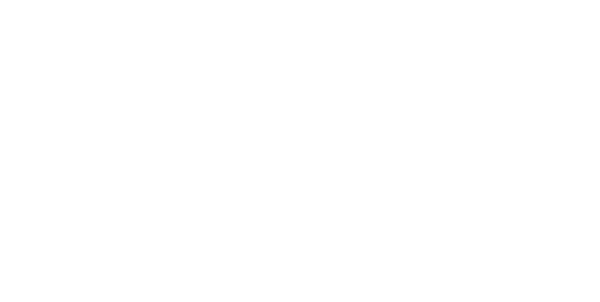Четырехчасовое зрелище получилось ярким и смешным, съедобно эклектичным, но и крайне противоречивым — в нем Юхананов то ли следует заветам своего учителя Анатолия Васильева, то ли пытается убить в себе и в своих соратниках его влияние.
Первое сильное впечатление — запах ладана, густо распространяемого на входе. В дверях зала стоят позолоченные, выше человеческого роста подсвечники, истончая из позолоченных яиц густой приторный запах. Домового ли хоронят, ведьму замуж выдают?
Почти всё пространство сцены зала «Манеж» отгорожено монументальным бархатным занавесом. Всех пускают на свободные места, анапест партера смешан с амфибрахием амфитеатра, каждый ищет свое место сам. Из-за чего случается легкая неразбериха, впрочем, быстро рассасывающаяся.
Таков и нынешний спектакль Бориса Юхананова — свободная композиция по страницам священного текста, максимально приближенного к современным условиям.
Каждый здесь ищет и находит свое место и свое содержание. Радостно видеть, как монументальные и отвлеченные конструкции эпической поэмы Гете оказываются резкими, в духе «Новой драмы», и массово доступными.
Театральный роман
Наиболее дотошно и подробно Юхананов поставил именно первые страницы «Фауста», обычно бегло пробегаемое «Посвящение» и два пролога — в театре и на небесах, из-за чего акценты спектакля смещаются. И значительно. Поиски доктора Фауста зарифмовываются с театральными происками авангардистов, а идеи и месседжи «Фауста» крутятся вокруг театральной метарефлексии.
Этому в значительной мере помогло приглашение на главную роль Игоря Яцко, нынешнего худрука театра «Школа драматического искусства». Яцко интонирует рифмованные Пастернаком строки в фирменной, доставшейся от Анатолия Васильева манере — с «неправильной» и «смысловой» разбивкой строк, с заострением акцентов.
Именно Игорь Яцко произносит начальное «Посвящение» («Вы вновь со мной, туманные виденья,/ Мне в юности мелькнувшие давно…») и становится главным героем «Театрального пролога». В нем Директор театра беседует с Поэтом и Комиком на сугубо внутрицеховые темы.
И всё это происходит среди зрителей, на фоне тяжелого малинового занавеса, по складкам которого стелются церковные курения.
Яцко явно представительствует от васильевской школы — интонационно и формально: он директор театра, доставшегося ему в наследство от Учителя, и он — Фауст, пытающийся остановить мгновение; он исследователь тайн жизни и человек, пытающийся выйти за границы познания, пытающийся раздвинуть пороги человеческого опыта.
Некоторые монологи Игоря Яцко воспринимаются буквальным изложением истории «Школы драматического искусства», из-за чего и весь прочий «Фауст» рассказывает про поиски «философского камня», способного спасти театр после того, как его оставил Отец-основатель.
Анатолий Васильев строил свой театр как храм, при «Школе драматического искусства» есть своя домовая церковь, во многих помещениях висят иконы. Вот для чего ладан и религиозный антураж — свечи, курения, очень кстати пришедшиеся песнопения про воскресшего Христа (действие некоторых сцен гетевской поэмы приходится на канун Пасхи), впрочем, перемежающиеся с вполне светскими романсами и оперными партиями.
Получается, что вся эта знаковая душеподъемность «Фауста» — привет Мастеру и Демиургу, сотворившему собственную вселенную на Сретенке. Что, кстати, уже давно не новость для репертуарной политики новой эры васильевского театра, постоянно и в разных формах откликающегося на травму изгнания Отца-основателя.
Для нужд этой психоаналитической задачи призывается то Чехов («Торги» Дмитрия Крымова), то сразу все «МалоРоссийские песни» разом (так называется спектакль Александра Огарева). Теперь пришла очередь «Фауста».
И тут надо отметить, что спектакль Бориса Юхананова в прежних своих воплощениях (как сам режиссер любит говорить, «реинкарнациях») путешествовал по самым разным сценам. В прошлые года «Фауста» показывали и в Театре имени Станиславского, и в РАМТе. Теперь очередь дошла до «Школы драматического искусства».
Нужно ли говорить, что здесь он чувствует себя как дома?
Васильевский спуск
А потом темно-малиновый занавес поднимают, открывая пустое пространство сцены, посредине которого сооружена мистериальная барочная конструкция, придуманная Юрием Хариковым.
Внутри четырех позолоченных иерихонских труб стоит черный куб, на который ангелы с золотыми крыльями опускают глобус. Всё это напоминает декорации к «Аиде» из «Собачьего сердца», а еще — курехинскую «Поп-механику», в которой невозможно предугадать, что из чего последует.
Надувные игрушки и пиротехнические эффекты, балет и женский хор, сатира и юмор, классицизм и площадной театр. Юхананов предлагает в «Фаусте» полное смешение жанров (опера, цирк с живыми кошками и дрессированной болонкой, пантомима, пафосная декламация и эстрадные скетчи, локальные перформансы и развивающиеся во времени и пространстве вполне самодостаточные инсталляции), оборачивающееся барочной бесконечностью.
Кошки мяукают то на сцене, то за сценой, собака лает, клоун комикует, ангелы священнодействуют, а над всем этим, в облаках ладана, гордо реет буревестник — всклокоченный Игорь Яцко, превративший своего Доктора то ли в Маяковского, то ли в Высоцкого, исполняющего Гамлета.
Реквием по мечте
…Это очень остроумная придумка — материализовать и сделать постоянно присутствующими на сцене ангелов и незримых сущностей, которыми поэма Гете напичкана в изобилии.
Все они, оснащенные изящными предметами, в прямом и переносном смысле разукрашивают действие, в котором Юхананов вытравил почти весь сюжет (история Гретхен разыгрывается скороговоркой), зато оставил массивные «идеологические» монологи про поиски истины и познание себя.
Всё верно — в эпосе Гете столько всего, что каждый из постановщиков (а в последнее время каких только «Фаустов» мы не видывали) вытягивает свои собственные «красные нити».
И Юхананов, в соответствии со своими доктринами «мистериального театра», сосредоточивается на схоластике, окончательно превращающей сложную для постановки поэму в «пьесу для чтения».
Борис предельно усложняет задачу для того, чтобы затем снайперски справиться с формой. Придумок и гэгов, расцвечивающих текст, здесь множество превеликое, заскучать никому не дают — жонглируя стилями и цитатами, импровизируя и включая в ткань спектакля ну, например, песенку «А я иду шагаю по Москве» или те же романсы.
С одной стороны, приближая отвлеченные умствования к злобе дня, а с другой — самым что ни на есть безбашенным и безбожным образом разрушая пафос священнодействия.
Словно бы постановщики не доверяют современному зрителю, праздному и легкомысленному, отчего и расчерчивают постановку постмодернистскими стразами. Чего стоят одни только интермедии с романтическими романсами, активно вмешивающимися в ход пьесы…
Выходит очень смешно. Отчего история совращения и самоубийства Гретхен окончательно превращается в раскладку нынешнего существования «Школы драматического искусства», которую, как вытекает из постановки, Игорь Яцко погубил, влекомый благими намерениями и азартом.
Проговорка эта вышла столь вопиющей, что мне показалось — Юхананов обязан изменить концовку: Фауст, проникший в темницу к грешнице, ожидающей казни, подобно голливудскому Супермену, выносит ее на волю, на свет.
Однако режиссер-деконструктор, любящий вмешиваться в классические тексты, на этот раз оказался верен букве и духу первоисточника. Гретхен отказывается следовать за совратителем и остается в тюрьме на верную гибель.
Страшно и странно длить эту аналогию, сотворенную в святых стенах последователями и учениками. Хотя, с другой стороны, несмотря на все трагические обстоятельства жизни, Театр должен жить дальше. «Чтобы в опустевшем помещении стали слышны наши голоса…»
А для этого, как это водится, каждый из сыновей должен убить в себе Отца.