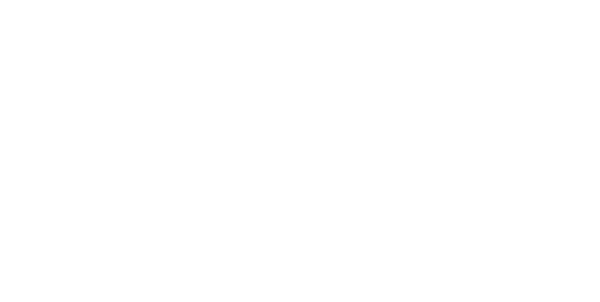ГЦСИ, в рамках программы «Контексты перформативности», куратор Кети Чухров. В своей лекции режиссер и педагог Борис Юхананов рассказывает о театре новой организации, в котором происходит не только производство спектаклей, но сама режиссерская и актерская деятельность становятся частью и выражением не хронотопного, бесконечного времени культуры. В таком пространстве нет телеологии, так как нет конца, ибо телеология тотальна и предполагает насилие одной онтологии над другой. Универсальность же театра создается именно безостановочным процессом – куда входят все его практики, ведя к основному вопросу: мы творим без творца, который нас создал и бросил, или он все еще с нами? Рабочие конструкты новой процессуальности направлены на то, чтобы создать театр полноты и привести театр к новой универсальности.
Кети Чухров.: Я всех приветствую, меня зовут Кети Чухров. Я веду здесь программу «Теоретические исследования по культурной антропологии», и в этом году у нас исследовательский проект «Контексты перформативности», в рамках которого мы решили пригласить Бориса Юхананова, художественного руководителя Электротеатра Станиславский, пионера экспериментального телевидения и видео.
Наша программа и наш проект «Контексты перформативности» исследует различные границы всех практик, связанных с перформансом, с перформативностью, с теорией и практикой этих экспериментов, и мнение представителей театра очень актуально для нас, потому что мы являемся художественной институцией, и вопросы перформанса здесь позиционируются совершенно иначе. Поэтому те перформативные практики, которые имеют место конкретно в театре и в театральных практиках, являются порой очень важными. И хотя они считаются с точки зрения современного искусства в некотором смысле анахроничными и забытыми, мне кажется, что сегодня мимесис, миметические практики должны исследоваться и заново реинституционализироваться.
Поэтому работы и исследования таких выдающихся людей, как Борис Юхананов, невероятно важны, потому что то, о чем он будет сегодня говорить, о новой процессуальности и о новой методологии его проекта, это в некотором смысле позиционирование театра не просто как пространства спектакля; потому что именно пространство репрезентации, именно пространство спектакля, спектакулярность, является тем злом, которое отвергает современная культура и современная критическая культура. Но мне кажется, Борис исследует это пространство как пространство новых творческих практик, которые в широком смысле универсальны – не только как режиссура или как актерское искусство, но в плане перформативности во всеобщем смысле. О том, как эта всеобщая перформативность может породить некое универсальное поле культуры, универсальное время-пространство, сегодня поговорит Борис.
Борис Юхананов: Сам термин «новая процессуальность» сложился не сразу. До этого я прошел определенные стадии, связанные с самой практикой и с ее артикуляцией. Надо признаться, что моя практика всегда была связана с необходимостью рефлексии, артикуляции, понимания. Можно было бы так сказать, что я окутывал ее теорией, и это было частью моей работы.
Все это началось в середине 1980-х, то есть давно, и прошло ряд стадий. Скажем так, первую свою теоретическую работу, которую назвал «Театр подвижных структур», я написал в 1985 году. Еще будучи студентом Эфроса и Васильева я стал интересоваться подвижной структурацией, то есть особого рода выскальзыванием из-под определенности, без которой не может существовать повторяющийся процесс как таковой. Потому что для того, чтобы процесс повторялся на территории публичной, или даже внутри репетиционного, закрытого, если говорить о театре, процесса, во-первых, надо понять, что такое повтор, что такое процесс, который мы хотим, чтобы повторялся, и как сделать так, чтобы, оставив его в живых, закрепить, то есть сделать балансировку, определиться в возможностях повтора.
Это еще и технологически необходимая вещь для театра, потому что театр предполагает участие множества технических средств и разного рода художников. В этом смысле это, конечно, коллективная работа, и во многом фабрика. Например, если вы хотите хорошо и точно высветить свой спектакль, значит, актер должен всегда, в определенный момент приходить в определенную точку. Дальше в определенный момент он должен разворачиваться так, чтобы попадать в свет, каким бы он ни был, после этого куда-то переходить и опять там оказываться в определенный момент. То же самое со звуком, с его партнерами и с тем, что принято называть мизансценой.
На самом деле, например, мимесис, о котором сказала Кети, можно широко понять – например, как особого рода стратегию отражения. Театр, конечно, начиная со своего рождения, довольно быстро расстался с мимесисом как таковым. В этом смысле театр во всех его репрезентативных красотах и спектакулярных стратегиях с мимесисом ни в коем случае нельзя идентифицировать.
В этом смысле театр, конечно, сейчас во многом самому контемпорари неизвестная область, и обращаться с ним надо именно так – как с неизвестной областью. Он и неизвестен самому себе, надо признаться. И вот этот статус требуется ему, чтобы в дальнейшем правильно взаимодействовать.
Не буду сейчас обращаться к мемуарам. Скажу, что это подвижная структура, то есть попытка выйти из-под тех технологий, в которых существует театральный спектакль. Связаны они с двумя моментами. Первый момент: ты делаешь что-то, потом это должно повторяться и определенное время жить. То есть ты делаешь что-то, что будет починяться законам энтропии. Даже станковая картина художника или любой объект, созданный его руками, будет подчиняться этому закону, но концепт мы можем его услышать еще и как особого рода направление, жест художественного интереса, который выводит произведение из-под законов энтропии.
И в этом смысле во многом в те времена мое настроение было концептуальным. Я имел дело с энтропией, и я ее ненавидел. Это была страсть. Отношения с энтропией были страстными. Энтропия спрятана в чувстве времени. Соответственно, у меня были очень острые отношения со временем. Я даже писал стихи, что «время – бешеное мчанье, оно безумно, и оно отчаянье». Дальше забыл. В общем, хороший был стих, не помню.
Вот эти технологии зиждились на тоталитарной организации производства. Не общества ни в коей мере, а производства. Я в свое время, когда впервые открылись границы, поехал в Германию со своим спектаклем, и пережил простой шок, связанный с телесностью. Я вошел в отель. Видимо, это был 4-звездочный, даже не 5-звездочный номер. И я подумал, что самое худшее из всего, что там пребывает, это я со своим телом. И мне было неудобно лечь на кровать, потому что она была лучше, качественней, цивилизованнее меня. Потом я зашел в ванную и увидел эту потрясающую ручку. Я никогда такого не видел. С детства мы пользуемся двумя кранами, а там была одна ручка. Повернул влево – льется горячая вода, повернул вправо – льется холодная. А так как меня каким-то глубинным образом очень тревожил образ тоталитарного, я вдруг понял, что технологии в цивилизованном демократическом обществе достигли какого-то ясного для простого потребителя цивилизации совершенства и произошло это благодаря тоталитарным свойствам. Вот этот кран сразу у меня проассоциировался почему-то со Сталиным. И я понял, что там все нормально. Там, видимо, родился какой-то добрый Сталин, сразу стал чертить и делать свои технологии, и в результате они достигли высот именно тоталитарного способа организации.
Это меня поразило и настроило на особый вид отчаяния, потому что я хотел выйти из-под власти тоталитарных технологий, то есть расстаться с самим собой, расстаться с этим мастером, с этим управленцем, с этой важной центральной фигурой на территории театра, спектакля, которая всем рулит; на которую сходятся все нити технологической организации театрального, в частности, производства, без которого ничего этого не может быть. Энтропия, особого рода переживание времени, невозможность участия в тоталитарных технологиях – вот то настроение сознания, без которого я не мог бы вам объяснить все то, что мне предстоит рассказать.
Дальше с энтропией что связано? Связано то, что ты делаешь спектакль. А дальше он начинает умирать, теряться, портиться, и ты обречен или на то, чтобы его чинить или наблюдать за его смертью, видя его публичную жизнь. Мы, например, не задаемся вопросом, почему нам вдруг во второй половине 1990-х стала отвратительна спектакулярность, когда Осмоловский сотоварищи объявили нон-спектакулярную революцию. Почему она нам отвратительна, и что, собственно, нам в ней отвратительно.
Или мы не задаемся вопросом, что такое перформанс. Мы говорим – перформанизация, перформанс. У нас есть ряд понятий, категорий, терминов, явлений в культуре, к которым мы не приближаемся с аналитическим вопрошанием. Их больше, чем то, что я сейчас употребляю, но пользуясь вступлением Кети и неким светом, лучом, который она оказывает мне, я все-таки хочу задаться этим вопросом, и дальше попробую ответить, что такое спектакулярность и что такое перформанс. Не в виде дефиниции – неприлично сейчас рассылать на бедных сограждан дефиниции в виде какого-то смысла.
Так или иначе, для меня было непереносимо заниматься смертным, то есть конечным продуктом, особенно созданным в образе этой тоталитарной технологии. Очень быстро в связи с этим я пережил границы и постмодернистского сознания. Это было позже, но эти границы для меня всегда выражались в игровой среде, в игровой культуре. По сути, постмодернизм оказался особого рода явлением, и я сейчас в двух словах объясню, как я это переживал в конце 1980 годов.
Драматург Славкин, когда мы с ним говорили о том, что, на мой взгляд, постмодернистское парадигматика уже закончилась, говорил: «Тут вот что-то закончилось, Юхананов говорит, а я даже не понял, когда это началось». Вот этим ощущением советского потребителя и автора культуры, который все время оказывается окружен кончившимися или кончающимися, умирающими процессами, которые он не заметил, когда возникли и начались, особого рода ощущением «хомо советикуса» были окружены я, мои товарищи по андеграунду или по каким-то разным приключениям художественным, связанным в середине 1980 годов. Мы были окружены этим мельканием происходящего, на котором невозможно сфокусироваться.
Это особого рода оптика, которая царила в культуре в момент ее реальной смерти. В имперской, советской культуре она умирала, корчилась, начиная с 1984 года, и эти корчи достигали андеграунда, разных художников, и все это было связано с определенного рода смертью, которая выражалась не просто в смерти самой этой империи, но, уже пережив брежневский декаданс, естественно отмирала. Это была смерть слова, потому что невозможно было употреблять ни одно из употребительных слов, в частности, слово «культура». То есть ты практически оказывался перед вызовом особого рода немоты. Ты должен был употреблять заново слова, но тогда ты должен был ответственно их определять через свои действия, а не просто через дефиниции.
Дальше правила, на которых существовала эта культура, были тоже непереносимы. Все это было очень страстным. Когда мы оказались у гроба, а это определенного рода событие – сидеть у гроба и ждать, когда окочурится империя, – это состояние длилось несколько лет, и это, конечно, пропитывало всю так называемую новую культуру (у нее разные слова) особого рода переживанием. Ты как бы принимал эту смерть как часть своей жизни. И смерть, то есть конец, окончательность, на самом деле была частью жизни в очень воспаленном сознании… Недаром возникли некрореалисты, особого рода темы смерти, недаром потом многие из моих друзей, товарищей по этому поколению очень быстро ушли в 1990 годы.
Вот эта непереносимость конечного продукта, и интерес к тому, как сделать так, и какие технологии спрятаны за тем, чтобы то, что ты делаешь, не должно было кончиться. Если на секунду перепрыгнуть в наше время и в ту лексическую область, где проживают такие термины, как проектирование, нужно знать, что вы никогда не получите деньги на проект с открытым финалом. Что бы вам ни говорили, вы должны дать начало и конец, обязательно поставить на стол так называемый график осуществления. То есть все технологические, рабочие форматы даже в такой широкой, по сути, по определению универсальной области как проектирование, построены на обращении с началом и концом, то есть с конечным продуктом,
Там, в середине 1980-х и дальше, для меня было непереносимо само понятие «конечность». Я хотел заниматься бесконечным продуктом. И не продуктом. Продукт мне был тоже непереносим. Почему? Потому что продукт, если в него всмотреться, состоит из роения правил, которые его определяют на разных уровнях. Вот это роение правил и есть продукт. Для этого он должен встречаться с правилами, которые определяют интерес. И эта встреча двух систем, из которых состоят правила, и есть потребление. Есть правило о правилах. Это правило о правилах звучит так – правила должны быть всем известны: и производителю, и потребителю. Если они неизвестны, продукта нет. Я специально как-то по-другому говорю об общеизвестных вещах.
Таким образом, правило как понятие, как особого рода центр моего внимания, тоже меня занимало. Настроение. Настроение художников и общества было – послать их, эти правила. То есть, как только появлялось правило, ты должен был от него избавляться. В этом смысле это настроение, противоположное сегодняшнему времени. Сегодня люди учатся, и если они преодолевают за счет чего-то информативный захват, который с ними делает цивилизация, то и за счет внимания к правилам, потому что недаром мы говорим о потребительской цивилизации, в хорошем или плохом смысле, неважно. Потому что если они не уловят правила, не сумеют с ними обращаться, они не выживут.
Никто не посмеет отменять правила, а тем более отдаться этому настроению. Его нельзя назвать анархистским, но именно пограничным настроением неприятия правила как такового, которое для поколения «волков» как красный цвет для быка. Это поколение волков не терпело правил, чуяло за ними охоту на собственную свободу и на собственное художественное витальное настроение.
И в этом смысле дальше этому поколению и следующему поколению предстояло пережить шок, когда воспитанные на том, что художник и тот, кто отвергает правила, вдруг узнали (и я хочу вас отнести к началу своей речи), что та западная цивилизация, которой они грезили и испытывали огромное количество иллюзий, это оплот правила как такового. Оно все построено на нем. И если ты без руля и ветрил собираешься там пребывать, ты изгой и кто угодно, но не цивилизованный человек. И если ты дальше хочешь что-то делать, ты должен привыкнуть к тому, что функционер, чиновник, грантодатель будет рассказывать тебе о том, чем явится будущее искусство, и делать тебе заказ. Будущее принадлежит не художнику, это все предстояло узнать. Будущее принадлежит грантодателю. Грантодатель будет назначать художнику, что ему делать, чем ему заниматься. То есть это все подхвачено, определено и тотально сформировано таким понятием как конъюнктура, заказ – в высоком и низком смысле слова. И оказывается, все величие европейской культуры сформировано жесточайшим обращением правила с самим собой и конъюнктурой. Это невероятно далеко от того места, где оказались, как результат этой смерти и пограничья, художнички андеграунда, и я в том числе.
То есть каким-то удивительным образом корчащийся труп империи породил варваров. Эти варвары вылезли в последнюю секунду из влагалища родины-матери, и наблюдали за тем, как муки смерти совпадают с муками последних родов, и вот таким образом импульс умирающей родины-матери дал им импульс рождения. И все наше отечественное искусство – это искусство варварское, страсть варварского типа. Это варвары. Их цель – уничтожить Европу. Это не Европа. А они испугались. Потому что у них были иллюзии. Они остановились, разинув рот, они поскромничали. И в этом травма. Поэтому все перформансы, вся эта культура переживает, по сути, перманентную травму. Затравили не волков, а затравили их варварскую гордость, это надо признать. Подсознание бедного Бреннара и так называемого московского акционизма в 1990 годы – это был последний вздрог этой гордости, не осознающей самою себя. Они начали признаваться в этом, выкладывая себя… на Красной площади, лая на мир, или разбивая священные кувшины европейской цивилизации, как это делал Бреннар в виде атаки на разного рода выставки. Но это не было варварской гордостью, это был результат травмы, отчаяния, и с этим быстро все кончилось.
Вот этот конец, это унижение я интуитивно переживал в середине 1980 годов и предчувствовал, как невозможное для себя. Я не способен на такие унижения. Те, кто оказывался неспособен, обычно выскакивали в окна. Но не все. С этим было связано предчувствие. Оно не теоретического характера, и даже не технологического. Туда, в витальность, отдается фатум, который странным образом слипся со страшной силой в душе, хотя они противоположны друг другу. Надо было переживать какую-то роковую историю, а ты ее не можешь переживать.
Вот эта вся история про то, как в Советском Союзе понимался рок. Он был девальвирован. Так как меня еще до рождения ограбили они, то я получил право грабить другого, в силу изначального ограбления. Сейчас ведь все то же самое. То есть рок девальвирован до понятия «они», некие «они». Сегодня они имеют свои имена, вчера они имели свои имена, и вот эти «они», это вот многочисленное местоимение, все время будет иметь имена и образы. Но невозможно же все время с ними разбираться. Это же какое-то унижение варвара, когда его пригнули к девальвированному року, и он должен сосать из него капли своего творчества. Это невозможно. Это просто кранты. Поэтому нет. Потом недаром многие перековались в 1990-е годы.
И теперь я скажу еще одну вещь, очень простую. Посмотрите, что происходило в XX веке с вертикалью. Сейчас я передал природу страстей, природу интуиции. Вот об этом особого рода слиянии, которое пережили витальное с фатумным на территории 1980-х годов, об особого рода гордыне, которая не могла быть истреблена будущим, но предшествовала войне с будущим откровением западной цивилизации, я рассказал, как мог, сейчас, в очень быстром рассказе, без примеров особенных.
А теперь я скажу одно такое простое размышление, которое тоже надо принять. Культура, особенно в 1970-е годы, конкретно театральная культура, но не только, могла выражаться в этой бесконечности тренингов, в том, что называл Делёз вслед за Фуко перманентной страстью к образованию, которая началась раньше. Все это выражалось в особого рода игровом настроении души. Недаром появились книжки «Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в игры», и тому подобная прекрасная ерунда. Мечта об импровизации, например, созрела в советском обществе. А импровизация – это структурация обязательно. Если ты не структурируешь и не можешь структурировать, то не надо говорить об импровизации.
А 1980-е годы, особенно это место, из которого я веду рассказ о новой процессуальности, связано со спонтанной культурой. Надо разделить импровизационное и спонтанное. Спонтанное лишено структурации. Если ты имеешь дело с искусством структурации, то на самом деле в своих технологиях ты имеешь дело с искусством постмодернистским, постструктурным, структуралистским. Это близко постмодернизму. И тогда ты имеешь дело с игрой. Это не обязательно веселое настроение души. Оно может быть крайне практичное, но если ты структурируешь, и освобождаешь при этом между узлами твоей структуры зоны, ты имеешь дело с импровизацией, а значит, имеешь дело с игровыми структурами. Сюда же приходит моделирование, чем особенно охвачена наука, но это все проникло и в искусство. То есть выносить искусство на модель, модель поселять между участниками игры, и, обращаясь с этой моделью, начинать разворачивать ту или другую структуру. То есть структура не может не предшествовать игре как таковой.
Что переживал XX век, если посмотреть на него пронзительно ясным глазом варвара? Очень просто. Вначале в нем созревала особого рода радикальная сакрализация. Надо понимать, что это такое. Мы же говорим не просто о священном, то есть выделенном из цивилизации. Мы говорим о том, что она была парадоксальной, эта сакрализация. То, что предназначено в традиционной культуре быть священным, то есть отделенным от цивилизации, полезло в гущу цивилизации. Что же делало это отделенное священное в начале века с той самой цивилизацией, от которой она по идее была всегда отделена, а тут вдруг решила присоединиться, оставаясь священной? Это парадокс о сакральном, который связан с модерном. Она полезла в самую гущу того, от чего должна была отделиться. То есть это все равно, что военная атака, это война. Ты заходишь в стан противника и выстраиваешь там место, абсолютно противоположное всему, из чего он состоит, и дальше еще говоришь, что теперь это место управляет всем, что происходит у противника. В принципе, это была первая безумная атака, совершенная целой культурой модерна, в частности, символистами, и целой культурой, которая была произведена над европейской цивилизацией.
И вот они там поселились. И дальше чем они вообще занимаются? Они же не просто флаги поднимают. Флаги поднимают обычные армии, обычные цивилизации. А эти запускают лучи в бесконечность. Только лучи эти не горизонтальные, а вертикальные. И дальше из этих фортов, которые имеют свои имена и практикумы, начиная от Генона, Гурджиева, заканчивая разного рода буддийскими практиками, переходим к Шри Ауробиндо, Кришнамурти, уже не говорю о множестве эзотерических практик, совершались опыты сакрализации под разными терминами и в разного рода практиках.
Надо признаться, что подлинную историю этой войны никто не изучил, никто не описал. Но она произошла, и она создала совершенно другую картину мира, другую картину сознания, действительности, гуманитарной действительности, об. И от каждого из этих фортов шли вертикальные лучи.
Выскажу некоторое предположение. В силу того, что весь этот захват, вся эта атака была совершена, кто был нейтрален к этому? Художники. Они были нейтральны. Они переживали это интуитивно, в разных формах, начиная от дадаистов, и в первую очередь от самых развитых фигур, футуристов (потому что наибольшее количество идей начала века произвели футуристы, которые очень сильно повлияли на дадаистов), и вместе пытались этот абсурд возвести в степень нормы, то есть как минимум спастись от этой травмы, что никому не удалось сделать, скажем прямо. И уже дальше эта травма ясно легла в сюрреалистическом сообществе, и была выражена в персонах. Давайте называть все своими именами: европейский авангард берет своим источником процессуальность, в первую очередь это настроение и публичность. По-другому он не возникает. Поэтому источником всех наиболее развитых идей в европейской культуре, авангардных я имею в виду, XX века, был и остается театр. И за этот снобизм бедных, травмированных художничков, которые растерялись на просторе и до сих пор думают, что они носители контемпорари (в то время как оно происходит в совершенно других местах, на мой взгляд), надо их пожалеть, отнестись снисходительно, то есть быть добрыми и счастливыми, как учит нас махаяна и к чему я вас призываю.
Итак, вернемся к рассказу. Лучи пошли. То есть в очередной раз, но на вражеской территории, образовалась вертикаль. И что? Какой был ответ? Тоталитаризм. Эту вертикаль, ее же невозможно разрезать, она же лучевая, забить другими лучами. Как ты сделаешь, что? Ею надо только воспользоваться, подняться в определенный момент и дальше ее перехватить. Вот функция тоталитарного заключается не просто в противопоставлении, а в перехвате вертикального намерения, вертикальных отношений, технологий, если угодно, потому что если мы возьмем традиционную, например, религиозную культуру, то мы увидим, что там потрясающе развиты именно вертикальные технологии. Священник, совершая акт положения книги, или хорового извлечения звука, делает это в технике вертикальной, ни в коем случае не иначе. Поэтому это разные, конечно, вертикали, те, которые идут из традиционной культуры, и те, о которых я сейчас веду речь как о части, серьезно занявшей умы художественного сообщества. Примеров бесконечно. Возьмите для нашей российской культуры отношения Штайнера с Михаилом Чеховым, изучите эту историю, и вы поймете, насколько это серьезно сказалось на целом ряде театральных, например, художников. Кто-то опережал, как, например, Евреинов, слышал зов постмодернизма благодаря своему потрясающему энциклопедическому зрению. Я уже приближаюсь к этой простой мысли.
Итак, тоталитарное перекрыло этот столп по вертикали в середине века. Посмотрите фильмы, например, Вертова или фотографии Родченко. Они рассказывают о новой религии. Коммунизм, пророки. Так или иначе, тоталитарное перекрыло. Если ты шел по этому вертикальному свету, под воздействием традиционной культуры, или под воздействием культуры новой, сакральной, ты обязательно оказывался в лапах у тоталитаризма, что и произошло с футуристами, с коммунистами, с сюрреалистами, со всеми. Они все оказались у орла – сами к нему пришли, прижались, и полетели.
Те, кто не так спешил, кто был поосторожнее, пообразованнее, и кто научился смирять собственные страсти, чаяния, в частности, страсть к публичности, в этом смысле к спектакулярности, стали ускользать из-под тоталитарного. И что тогда возникло? Тогда возникла необходимость горизонтального ускользания. И в эту секунду и под этим намерением, как ребенок войны, которую я пытаюсь вам описать, возникает постмодернистский импульс, это выскальзывание из-под вертикали. Но это уже не линеарная горизонтальность. Это огромная территория, на которой надо было обязательно вывести такую функцию – все равно всему; надо обязательно было квантовать мир, выйти из-под власти вертикального захвата, который был сам по себе захвачен. И возникает долина постмодернистских пространств, где начинает проживать культура, убегающая из-под власти тоталитаризма.
И вот она развернулась. И, казалось бы, она безгранична. И более того, эта культура для виртуозных бегунов. Это такое виртуозное ускользание, это какая-то вселенская веселая колобковость веселая. Недаром потом Колобок, когда в 1990-е была попытка возвращения постмодернизма уже совсем под другим соусом, невменяемого, в травмированном поколении русского акционизма, Колобок стал главным героем. А потом Буратино. Буратино, он и сейчас актуален.
Но оказалось, что у всего этого есть пределы, и эти пределы стали обнаруживаться как раз в середине 1980-х годов, в связи с этим подступающим будущим, как когда надвигается какая-то гроза. Еще тучи не собрались, но ты, как животное чувствуешь его приближение. Меня, кстати, поразило совершенно поведение людей в Армении, куда я поехал в конце 1980-х на какой-то фестиваль: в каком-то горном месте люди собирались в кучки, о чем-то говорили, потом разбегались и снова бежали в кучки. А потом грянуло землетрясение. И оказалось, что люди вели себя как животные. А потом грянули всякие события развала империи. Потом, когда уже в 1990-е годы я пришел в Дом кино, то вдруг увидел что-то знакомое: бегали по лестницам люди, собирались в кучки, о чем-то говорили, потом они бежали в другое место, говорили. Я думал – что такое? Сейчас что-то случится. В этот момент рухнула пирамида, и с этим несколько банков, где у бедных деятелей кино и театра лежали их сбережения. Это такие же проявления бегающих, собирающихся в кучки, отчаянных животных, которые мы можем просто не замечать за собой.
Таким образом, я вдруг понял, что игровое сознание ограничено. Я вдруг стал переживать эти границы в связи с предстоящим. Трудно рассказывать анекдоты, когда к твоей деревне подступает землетрясение. И ты начинаешь переживать оскудение игровой души: она как бы не способна на этот удивительный акт побега из-под власти обстоятельств, который надо совершить. Ты оказываешься в особого рода времени. Это не хорошо, но и не плохо. Это время, когда обстоятельства реальности тебя притягивают с такой силой, что ты не можешь над этим воспарить, как нас учат брахманы, и отправиться в абстрактный мир. Игровое осознание обнаруживает свои границы.
Что в этот момент открывается? Как удивительно устроена история. В этот самый момент исчезает тоталитарное. Это потрясающее событие души, которое переживает душа художника, если он оказывается уже артикуляционно, понятийно, экзистенциально, витально и фатумно включен в эту проблематику. Он вдруг понимает, и это я, в том числе, пережил – что небеса-то открыты, тоталитарное исчезло, никто не перекрывает вертикаль. Ничего себе, сказал я себе. Значит, ты обнаружил границы игрового сознания, постмодернистская в этом смысле техника, практика, которую ты естественно и искусственно изучал, она вдруг показала свои пределы, и в этот момент, в этот самый момент ты видишь, что вертикаль открылась. И вот тогда, в этой точке возникают формулировки – «новое универсальное искусство», «новое мистериальное искусство», «новая процессуальность».
И тогда ты понимаешь, что имеешь дело с особым образом креста, выговоренным заново, и без коннотаций. Просто это определенного рода игра горизонталей с вертикалями, которые начинают разворачиваться в твоем практикуме, но еще это связано с понятием сферы… Сфера сейчас очень актуальна в философии, например. Она противопоставляется пирамиде, например, у некоторых философов. И происходит особого рода война сферы с пирамидой. Но сфера, на самом деле, открывается и вступает во взаимодействие с крестом. Вот это происходит в конце восьмидесятых годов и потом уже в начале девяностых. И если ты успеваешь это принять, то новое универсальное искусство включается в диалог с новым мистериальным искусством. Сфера связана с универсалиями, а мистерия – с судьбой сакрального.
Конечно, я двигаюсь по этим путям. И начинаю разрабатывать "Театр Театр", который подступает к этим вопросам. Я делаю целый ряд спектаклей, еще вот в мороке этих предчувствий. Потом я набираю Мастерскую Индивидуальной Режиссуры «МИР-1». И дальше мне нужно было пережить особого рода открытие, уйти из-под вот этой грозящей варвару захватом ловушки. А это можно было сделать только, уйдя на глубину. Вот, если скажем, мой товарищ Сережа Курехин был такой именно вытаращенный на мир человек, с «Поп-механикой», то он, естественно, схлопнулся так же, как все те, кто работал с коллективн, с массовым искусством. А театр давал возможность уйти на глубину и практически закрыться, потому что самым свободным от спектакулярных и массовых таких притяжений является театр.
Как это ни странно, единственное место, в котором можно освободиться от спектакля, является театр. Я хочу вам это подчеркнуть. Только на территории театра можно от спектакля освободиться, все остальное будут галлюцинации кроликов. Вот это надо услышать, как парадокс о театре, который я предлагаю.
И вот это мое освобождение от спектакля началось тогда и потому, что я стал работать с эволюционирующим проектом. Это не то, что принято называть в Европе, это совсем другое. Это проект, запущенный в эволюцию. То есть ему даны такие технологии, благодаря которым, он саморазвивается. И я стал изучать то, что я тогда называл саморазвивающейся структурой. Это произошло в момент «МИРа-2», когда я набрал мастерскую индивидуальной режиссуры в 1989 году. Мне не хочется идти по собственной биографии, честно вам скажу, потому что мы не для того собрались. Но без объяснений каких-то моментов, на которых я позволил свое и ваше просветленное внимание остановить, просто было бы непонятно то, о чем я говорю. Теперь это будет понятней. Меня трясла вот эта кровь, которая предстоит империи, и с московскими дикими людьми андеграунда, со зверьми андеграунда, моими друзьями (и я такой же был абсолютно человек), уже после определенного рода катаклизмов, связанных с театром-театром и со всеми другими приключениями в моей жизни, я делаю спектакль «Октавия». Это в рамках проекта «Лабиринт», который начался с проекта «Борхес».
Он посвящен будущему развалу империи. Меня интересует будущее – не прошлое, ни настоящее – в силу описанных мною настроений души и духа, я интересуюсь будущим, и я с ним нахожусь в отношениях. И вот эта кровь, которая должна пролиться, мы ее нюхаем. Понимаете? Там разные были люди. Например, там впервые появился Саша Петлюра, Дуня Смирнова… Мы организовали футурологическую действительность в виде академий. Это все практика истории и конкретной жизни. Это легко прочитать. Поэтому я и не хотел бы об этом говорить. Но сам спектакль построен на лже-Сенеке, пьесе о Нероне, о том, как он сжигает Рим и убивает своего учителя Сенеку. Это настроение – убить учителя, фигуру отца, эту тоталитарную фигуру – было очень сильно. Убить не во фрейдовском смысле, а в том, как там написано, это настроение Нерона. Но за этим обязательно следует кровь, развал империи. А второй момент, это эссе Троцкого о Ленине. Вот я взял эти два текста, соединил их, Юра Хариков вместе со мной разработал совершенно гениальную, на мой взгляд, сценографию, это творилось на протяжении определенного количества лет, но осуществить и построить это мы не смогли. Это перевернутая волчица с сосцами в виде кремлевских башен. И она есть.
Сейчас у меня настроение, которое я называю «открыть архив». Прошло уже много лет с описываемых событий. Поэтому я это все буду делать в следующем году, как специальную серию акций и связанных с этим рассказов. Снова андеграундное настроение нахлынуло в конце восьмидесятых, начале девяностых. Люди второй раз, теперь уже поневоле, оказались в андеграунде, потому что их предчувствия начали сбываться. А это предчувствия «неуловимых Джо». Знаете этот анекдот о неуловимом Джо? Все знают?
– Нет.
Б.Ю.: Стоят два солидных человека Гарри и Смит, люди глубоко западные, цивилизованные, включенные в ответственность общества перед самими собой. И вдруг мимо них что-то просвистело, проскакало. Смит спрашивает у Гарри: «Гарри, что это было?» Гарри отвечает Смиту: «Это неуловимый Джо проскакал». – «А что ж его никто не поймает?» – говорит Смит. – «А кому он, на фиг, нужен?» Это именно то, что поджидало всех этих художничков андеграунда, все эти революции, новую культуру восьмидесятых годов к концу девяностых. Вот это состояние неуловимого Джо. И от него не избавиться. А народ, который отказывается слышать, как свистит неуловимый Джо, поджидала кровь. Все это связано – поймаешь Джо, кончится кровь. Но этого еще никто не знает. Это нас в будущем поджидает – узнать, что сакральное, волшебное – это и есть неуловимый Джо. Его надо поймать и бережно хранить, пока он не ускачет. Поймает цивилизация, культура неуловимого Джо, Гарри со Смитом начнут следить за тем, чтоб у него был корм овсяный, чтоб ему было счастливо, хорошо. В зависимости от настроения неуловимого Джо будет развиваться мир. Хочешь войны, пожалуйста, Джо проскакал. Поймал его – война остановилась.
То есть цивилизацией управляет неуловимый Джо, который на фиг никому не нужен, чтоб вы поняли, что я сказал. Это и есть образ сакрального, в которое оно пришло. Когда-то была иллюзия важничанья: мы в центре культуры, мы гении, мы умеем скандалить. А теперь надо понимать природу всех этих скандалов, которые сегодня разверзаются и уже все более трепетно-комично на территории отношений культуры с социумом. Это позвякивание проскакавшего мимо неуловимого Джо. Поэтому настроение к скандалу, к атаке, к войне, к захвату, какие-то важные настроения, которые испытывает художник, на мой взгляд, абсолютно обречены и комичны. Его просто удавят бумажкой, одним долларом, но его удавят навсегда. И если бы это поняли, а это неотвратимо придется понять, то тогда можно противостоять происходящему катаклизму, который идет, конечно, по полю.
Итак, дальше я пойду быстрее. Естественно, все, что происходит на территории, которую я пытаюсь выговорить, артикулировать, трудноуловимо для слова. Поэтому я пользуюсь определенной техникой, актуальность которой была различена мною в момент вот выхода из-под «Октавии». Итак, эссе Троцкого о Ленине и пьеса лже-Сенеки, где Нерон убивает вначале своего учителя, а потом всю семью, сжигает Рим, кровь льется, как это любят римляне и на все это с удивлением взирают варвары, у которых нет вампирического импульса. Потому что вампирический импульс созревает в культуре серьезно развитой. Он же неестественен, а варвар естественен. Он как бы не знает соблазна искусственности. Вот эти тоже размышления заставляют услышать в культуре, в цивилизации, особого рода воспаленный диалог между естественным и искусственным, который в 1990-е начинает забирать власть над сознанием философствующего художника или практикующего философа. И я к этому вернусь.
В частности, обостряются отношения между текстом и речью, вот это очень остро переживается. Итак, я касаюсь определенного рода категорий. Да, я говорю о конечном и неконечном способе проектирования. Я говорю о выходе за пределы постмодернизма, не расставаясь с ним. Вначале при помощи креста, я просто на знаке это скажу, потом в обращении со сферой, то есть нового универсального вектора.
Я говорю о тексте и о речи. Текст – это что-то, что уже зафиксировано. Понимаете? Мы знаем франкфуртскую школу, например. Мы знаем, что текст создает читатель. И, надо признаться, мы это знали-то уже в конце пятидесятых, шестидесятых годов, если научились читать. Но от этого текст-то не меняется. Когда мы говорим о том, что текст изменяется, мы говорим не о тексте, нет. Мы говорим об особого рода функции, которую он в обществе совершает. То есть общество меняется и по-другому читает и понимает текст, вот и все. Но если смотреть глазами варвара, текст какой был, такой и есть. Значит, он не меняется.
А речь? И как определить текст и что такое речь? Текст не является саморазвивающейся структурой. Он есть. Он может быть создан двумя, например, разными способами. Он может быть написан и при помощи системы перечеркивания, он может возникнуть, как некий окончательный вариант, или – у особенно воспаленных сознаний художников, которые все время корчились в предчувствии будущего, далеко отстоящего от их настоящего. Например, у Хлебникова, будет эффект постоянного переписывания, но все равно Хлебников со всей его попыткой уйти из-под власти текста к корням все равно будет иметь дело с текстом.
Значит, если мы хотим выйти за ухваты текста, за пределы текста, мы должны начать иметь дело с речью. В эту самую секунду мы одновременно приближаем к себе прошлое и будущее. Как вы понимаете, например, в иудаизме – я беру как пример иудаизм – был запрет на письменные тексты. Именно пережить запрет на захват, то есть понять пределы текста, невозможно только со стороны, это должно быть каким-то нутряным открытием человека. Вот мы – как целое поколение людей – были обречены на это. Потому что на наших глазах умирали понятия, и тем самым оскудевала власть текста над сознанием человека. Это помогло. Так или иначе (и это другое, хотя и связанное с постмодернизмом), иллюзорность власти текста над осознанием, например, театра, то есть процессуального искусства, стала очевидной. И тогда из нее надо было выйти. Я вышел при помощи речи. Я стал понимать театр не как текст, а как речь. В эту секунду я испытал освобождение от семиотической культуры.
Синтагма, семиотика, вся эта надежда на семиотическое понимание театра, которая была выражена, например, в семиотическом семинаре Анны Юберсфельд, который несколько лет развивался в Сорбонне. Это очень влиятельный семинар. Например, оттуда вышла знаменитая книга Патриса Пави «Словарь театральный». Знаменитая книга, очень существенно оказавшая серьезное влияние на 1980-е годы.
А что такое семиотика как не представление о мире как о тексте? Все это очень быстро обнаружилось для варвара, о котором я веду рассказ, как абсолютные иллюзии. То есть римляне нас пугают, а в фортах, которые защищают эту империю, ничего нет. Они будут сдаваться просто от одного нашего вида. Так и происходило.
А вот речь – это другое дело. Но речь, как минимум, пребывает в трех ипостасях. Она может предшествовать тексту, и она может являться дитем текста. Ты как бы прочел, вдохновился и начал говорить. Но она может миновать текст. Она может его огибать. То есть отказываться иметь дело с текстом.
Вот этот отказ от текста, в таком важном, существенном понимании, структуралистском и даже постструктуралистском, является отказом от ангажементов как таковых. Потому что если ты не оттекстовал себя, ты как бы не можешь оказаться в цивилизации. Потому что текст подчиняется правилам, а речь – неизвестно, какие там правила. Как минимум, она не выяснена с точки зрения цивилизации. Поэтому все те катаклизмы и приключения речи изучались такой наукой как новая риторика, возникшей в начале 1960-х годов. Но изучались, на самом деле, в какой-то особого рода путанице, где речь представлялась в виде текста.
А древняя речь существовала совершенно другими способами. Например, агора. Ну вообще речь ритора римского – это речь, которая не может стать текстом. И когда она превращается в текст – это что-то совершенно иное. А тем более речь акына. Или речь сказителя. Или речь раввина, когда они делились на танаев, и амараев. Вот амарай – знаток, а танай – который помнит. Поэтому танай мог пересказать тебе этот стих огромный, в 72 имени и во всю величину Торы, с любой страницы и с любого момента. Он как бы был носителем. Но он не существовал без того, кто комментирует это. То есть при помощи памяти преодолевает текстовой захват, который в этот момент совершается. И это, конечно, огромная культура Бейт-Мидраша, которая зафиксирована в Талмуде. Я на секунду как бы забегаю вперед, в будущее новой процессуальности, в связи с рассказом о речи и тексте. Дело в том, что Талмуд – это не текст, это запись шахматных партий, которые играли гении друг с другом на территории правил.
Поэтому уже в нулевые годы возникло искусство, автором которой является мой товарищ, блестящий знаток еврейской средневековой философии Ури Гершович, «ПтихАрт». Правда, это мы придумали вместе, в Иерусалиме в один момент. Он занимался птихтованием – особого рода игрой с композицией. Но я забегаю вперед.
Вернусь к моменту, где для меня стало очень существенно работать с речью, а не с текстом. И я представил себе театр как речь, а не как текст. Это дало возможности. И вы свидетели того, как это происходит и сейчас.
Дальше речь начинает дегустироваться. Возникает такое понятие, как дегустация. К этому моменту многие продвинутые люди, например, медгерменевты, образовали постконцептуальную дистанцию к культуре, к собственным учителям. То есть они их убили, как это совершил Нерон. В этот момент они оказались на территории особого рода концептуального высвобождения свободы. Они начали апеллировать к сакральному, к тому, к сему. И в конечном итоге они стали измываться над текстом как таковым, и над идеей как таковой. То есть стали праздновать дистанцию. В этом смысле оказались в ловушке вот этой ясно различенной им границы постмодернистского сознания. Потому что они стали этим пользоваться и оказались этим ангажированы. А надо было выйти из-под любого типа ангажемента. То есть оказаться сумасшедшим.
И именно этому опыту выхода из-под любого ангажемента посвящен мой видеороман «Сумасшедший принц». Я беру фигуру Гамлета. Я формулирую его как человека, лишенного наследства или отказавшегося от наследства. На самом деле это одно и то же. Ты ведь по каким-то причинам отказываешься от наследства, значит, ты его лишен. Потому что есть причины, по которым тебе придется от него отказаться. И все. Вот эта лишенность наследства дает тебе свободу от ангажементов. У тебя нет надежды, и ты оказываешься в безнадежной ситуации.
Именно в этой ситуации ты выходишь из-под тех правил, которые тебе набросало собственное поколение и тот опыт преждевременных идентификаций, которые пережили художники в конце 1980-х годов. И ты уходишь с поверхности. То есть для тебя телесное перестает иметь значение. А в этот момент понятие телесности, тела как такового начинает набирать обороты. Потому что остаются трупы, и они предстают в виде тела. И вот это тело, которое интересует культуру, философов, почему-то не берут в стадии разложения. Кроме некрореалистов, которые это предчувствовали заранее и поэтому оставались шоком для 1990-х годов. Потому что тело можно рассматривать только в режиме разложения. Судьба тела – это его разложение. Как раз то, что я пережил как невозможное для себя. Например, тело спектакля. Или тело текста. Текст – это тело. Не более и не менее того.
Дальше можно уйти в очень серьезную область отношения тела и души, которая разработана в средневековой философии, в еврейской философии, например, у Рамхаля Раби Моше Луцатто, кабалиста и праведника итальянского, который, кстати, заодно создал итальянский язык. Или в арабской философии, тоже очень существенно. Но я сейчас не об этом. Хотя я приближаюсь к ключевой точке.
Итак, я должен был отправиться в эволюционный проект. Меня интересовал новый универсальный подход к процессуальности. Я тогда это называл не новой процессуальностью, а новоуниверсальной. Меня интересовал новомистериальный подход, то есть возвращение вертикали и горизонтали в актуальное. Даже не могу назвать это театром. Потому что я со своими понятиями театра расстался в 1980-м году. Сказав не «Театр», а «Театр Театр». И дальше поэтому я пользуюсь понятием «Мир».
И тогда я выбираю канонический текст «Сад». Пропускаю многие вещи. Именно здесь, на территории этого текста, мне удалось развернуть то, что я сейчас понимаю как новое процессуальное искусство. То есть выйти за пределы театра и оказаться в другом виде искусства. По пути я исследовал это. Я, например, в этот момент очень серьезно переживал категорию перформанса, перформанизации. Если просто сказать, эта категория подчиняется двум понятиям. Вот, например, с точки зрения человека я скажу. А человек на территории перформанса обязательно оказывается в роли изделия.
Здесь вступает особого рода диалектика, которая вначале кажется дихотомийной, а потом оказывается триадой. Это диалектика изделия и творения. Потому что, если ты имеешь дело с человеком как с творением, ты находишься на территории классического театра. Все техники театра, особенно российской традиции, идущей от Станиславского, связаны именно с обращением с человеком как с творением. И если рассказывать отечественную технологию традиций (она уникальна, надо признаться) – это именно технология обращения с человеком как с творением. И все там на этом построено.
А если рассматривать технологии, которые привели к перформанизации и к тому, что мы понимаем, если говорить с точки зрения взгляда на человека (которые в Баухаузе, например, развивались, которые были запущены футуристами, запущены дадаистами и дальше разворачивались) – это именно обращение с человеком как с изделием. Это прекрасно. Просто это другое.
И вот тут стало разделяться то, что можно называть авангардом и театром. Хотя это разделение фиктивное. Тот же самый Мейерхольд пытался перейти эту границу, как вы знаете. Он, на самом-то деле, с точки зрения творения обращался с человеком. Но как бы имитировал обращение с ним как с изделием, то есть при помощи машинного или фабричного взгляда на человека. Он для этого пользовался парадоксально практиками, вообще к этому не имеющими отношения. Например, кабуки, которые никогда не расставались с пониманием человека как творения. Это исключено для японской культуры, например. То же самое – все сакральные традиционные культуры, это только как к творению, только.
Арто в страшных снах не мог бы представить себе перформанс, для него это оскорбительно. Он все равно относился к творению. Он просто говорил, что творение должно умирать на сцене. Поэтому то, что он был невероятный интуит. И то, что я вам сейчас рассказываю, может помочь понять Арто.
Потому что я вам рассказывал до этого главу, которую можно обозначить «Обнаружение себя как сумасшедшего». Выйти из-под власти ангажемента. Стать сумасшедшим, обреченным сумасшедшим. Расстаться с иллюзией и так далее, на территории светской «культуры». Берем всегда это слово в кавычках, помня о том, как его ненавидит Питер Брук.
Дальше. Итак, речь. Можно говорить об этих теоретических, очень интересных посылах: речь предшествует тексту, речь огибает и в принципе минует текст, никогда не попадая под ангажемент текста, речь выходит из-под власти текста.
Очень быстро скажу еще два очень важных термина. Структурирование. Вы уже поняли, это априорное. А как расстаться с априорным? Где техника, которая выходит за пределы, например, постмодернизма, но при этом не расставаясь с ним, а давая возможность свободе пучковых так называемых, новоуниверсальных стратегий, образующих сферу? Сразу скажу: эта техника называется постструктурированием. Это техника варвара. В чем ее суть? То есть это не простой варвар. Это варвар, который уже пожил в сенате, поуправлял Римом, но остался варваром. Вот это такой варвар. Их было много, они-то и разрушили Рим. Это и есть постструктурация.
Что происходит? А что спрятано в этом понятии? Высокое паразитирование. Ты ведь ничего не создаешь, ты только пользуешься тем, что было создано. Но было создано, а теперь вопиет о пересоздании. И вот эта практика постструктурирования – на самом деле, очень глубокая техника, которая выходит из постмодернистских коллажей, разного рода коктейлей, из рэди-мэйдов – из чего угодно. Ты берешь как бы уже состоявшееся или уже проявленное, и дальше начинаешь с этим оперировать. Эта практика записывается внутрь любого художественного процесса. Но теперь выдели ее и сделай доминирующей. И тем самым получи такой тип дистанции к происходящему. Вот тогда она начнет работать.
Например, как развивалось андеграундное кино? Именно так. Они брали испорченную пленку и монтировали из нее новые композиции. Эту же пленку уже кто-то снял, там что-то снято. Они при этом преодолевали захват франкенштейновский – ты как любитель соединяешь разные части, не образуя нового целого. Весь фокус постструктурирования как практики – образовать новое целое. Но если всмотреться в ту технику, с помощью которой образуется целое и которую я называю постструктурированием, то она подразумевает не только осознание, понимание, но и практику. А дальше замечания мастера к этой практике. И это неописуемо в докладе. Это надо идти тогда в мастерскую и там практиковать. Это очень важная техника, без которой сегодня не существует нового процессуального искусства, и даже нового театра (так называемого постдраматического). Он весь пронизан постструктурирующими техниками. Как бы к этому ни относились сами творцы.
Так вот, ты получаешь целое, то есть ты на самом деле находишься в парадоксальной точке. Как бы вложение второй души. Ты как бы становишься демиургом наоборот, анти-демиургом. Если представить, что был первоначальный план, то ты почему-то имеешь власть над ним, над одной из его частей, работая с которой, ты образуешь новое целое. Тебе как бы выделено место в истории и в собственной практике для этого. Вот в этом заключается это искусство – то есть в образовании нового целого. Так вот, это целое снимает оппозицию между творением и изделием. То есть постструктурирующие практики – это практики, при помощи которых можно снять эту оппозицию. Они растительные или садоводческие, если в них всмотреться.
И тогда возникает третье явление, на которое я сейчас только укажу, а вот этот сложный очень перевод дихотомии в триаду. Потому что новая процессуальность и новое универсальное искусство связано с искусством снятия оппозиций, преодоления иерархий, выхода из-под власти иронии, из-под власти текста и так далее. Это все те технологии, без которых отправиться на территорию бесконечного типа процессуальности невозможно. Ты точно имеешь точку начала, и не может быть, точки конца. Вот это и есть новая процессуальность в самом-самом простом определении. То есть ты проектируешь что-то, что не может закончиться. Ты имеешь дело с бесконечными процессами. С процессом как с бесконечностью. Вся цивилизация в этот момент отменяется.
А второй момент, который определяет новую процессуальность – так называемая индуктивность. Вот что это такое? Индукция: когда правила складываются во время игры. Правила всегда существуют, но они будут изменены. В любой точке происходящего, саморазвертывания структуры, которая уже включила в себя практику по структурированию, правила обязательно будут изменены. Попробуйте иметь дело с правилами, которые обязательно будут изменены. И вы окажетесь в индуктивной перспективе. ты Давайте из классического что-то возьмем, из живописи. Набросал фигуру. Начинаешь разрабатывать пальцы, члены, глаза, все остальное. Фигура уже существует. Ты различил ее как конечную. Про что бы ты ни говорил, вот тут работает правило постмодернизма, когда идеология оказывается в технологии. Если ты хочешь выйти из-под власти идеологии, предложи новую технологию.
Это огромное открытие именно постмодернистского сознания. Это они различили присутствие тоталитарного именно в технологиях, а не в идеологической части. Но они с этим особенно ничего не смогли сделать, кроме как импровизации. Уже спонтанное выходит за пределы постмодернизма. Поэтому тяга к спонтанным форматам возникла в середине 1980-х годов. Дикая неструктурация – это набросать смесь, а дальше ее взорвать. Это уже, по сути, арт-терроризм. Более того, там происходила особого рода невменяемая сакрализация. То есть технология была изменена, а при этом она означивала собой тоталитарную фигуру и тем самым ее взрывала. Но не в методах карнавала, при помощи перверсий и переворотов, а просто самим фактом доведения его до предела, до сумасшествия. Это делал Сережа Курехин. И так далее.
Я сейчас не хотел бы растекаться на ту область, сквозь которую уже прошел. Теперь я нахожусь в «Саду». Я с группой товарищей и учеников абсолютно сознательно беру самый знаменитый текст ХХ века, который пережил самое большое количество интерпретаций и постановок. И отправляюсь в сознательное путешествие создания нового процессуального проекта. То есть новоуниверсального, новомистериального проекта.
Что происходило в этот момент в культуре? Это очень важно сказать. Накапливался опыт десакрализации, связанный с необходимостью стряхнуть с себя когти трупа. Искусство десакрализации так и осталось нашим национальным искусством.
В чем было мое сознательное сопротивление? В том, что я не хотел этим заниматься. Потому что сама по себе десакрализация как акт приводит тебя обратно в постмодернизм, и ты никуда не денешься. Я предложил изучать новые сакральные практики. То есть новую мистериальность. Для этого мне потребовалась такая формулировка, которую я называю «аттракцион «Мистерия». За этой формулировкой скрывается простая игра дефиниций, но на самом деле это именно технология. Я сейчас пройду мимо нее, чтобы успеть куда-то прийти подальше. Вот есть аттракцион. Это что-то противоположное мистерии. И возьмем это как очевидное.
Давайте сформулируем вначале более-менее канонически. Например, через понятия, связанные с потенциалом (и об этом я сейчас буду говорить), – такие как актуализация. Это категория существенная для философии, для художественной практики. Вот актуализация вне временного пространства, через ритуал. И с чем бы мы ни столкнулись, мы ритуал понимаем через корень, через «риту» – это санскритский корень, порядок. Вот когда мы актуализируем вневременное пространство через ритуал, мы получаем традиционное представление о мистерии.
Определим теперь аттракцион: это актуализация настоящего времени через трюк.
Вот таким образом я ввел прямо здесь, при вас, четыре очень важные категории, на которых я сейчас расскажу, что такое новая мистериальность, более строгим языком. С одной стороны, это аттракцион и трюк. С другой стороны, это мистерия и ритуал.
Вот что надо сделать, чтобы получить новую мистериальную практику? На уровне этого философствования, то есть работы с категориями, более-менее ответственными и укорененными в традиции, например, гуманитарной мысли – скажу так, обтекаемо. И что ты реально должен сделать? И тогда мы уже имеем дело с очень реальной практикой. Вот если мы научимся и сумеем актуализировать вневременное пространство через трюк, а настоящее время – через ритуал, вот тогда мы получим новую мистериальность. Это и есть сакрализация, это и есть техника сакрализации, которую я стал делать над текстом Чехова.
Вот по-простому теперь объясню, как это положено в разговоре с творческими, чудесными, открытыми к живой жизни душами, а не всякими мертвяками. Расскажу по-простому. Я говорю: «Ребята, что такое сад, и что такое дом?» Там есть сад и есть дом. Как известно, дом там продают, а сад вырубают. Катастрофическая перспектива.
Первое, с чем абсолютно точно уже не хотела иметь моя душа после Октавии, – с чернухой и с катастрофическим сознанием.
Некатастрофическая перспектива, в которой ты ведешь работу – раз. Чернуха непереносима – два. Дальше. Десакрализация – это просто свернешь шею. Значит, новая сакральность. А это означает новая коллективность и новая искренность. И все это конец 1980-х годов, когда эти слова только возникнут в культуре в конце 1990-х. А это означает сумасшедший – потому что ты занимаешься чем-то, чего еще не было, а может быть, никогда и не будет. Будешь ты этим заниматься? Конечно, в этом весь интерес. Но это надо быть сумасшедшим. Помогала нам быть сумасшедшими наша действительность, как мы с вами прекрасно понимаем.
Тогда ты задаешь вопрос: что такое Сад? Давайте не будем задаваться вопросом, что такое Дом. Потому что идея дома, начиная с дачи актеров и кончая домом, театром как домом трясла весь ХХ век русский театр. И сотрясла его до абсолютного обнуления смыслов, которые там могли завестись. Мы не хотим заниматься Домом. А что такое Сад? И вдруг начинает открываться возможность, и начинается процесс сакрализации. Что такое Сад? И тогда ты начинаешь создавать миф о Саде. Вот в эту секунду ты встаешь в позицию одновременно создателя мифа и его участника. Без этого новая мистериальность, а на самом деле новая процессуальность, если ты не окажешься в этой позиции, тебе не дана. В этот момент тебе надо иметь именно сумасшедшее доверие к собственной интуиции. То есть ты должен быть варваром по-настоящему. Над тобой не может уже иметь власть ни история, ни прошлое, ни форматы сакральные, которые известны, и постоянно на тебя нацелены со всех уголков мира. Ничто не должно. Но ты должен эту силу получить. И тогда ты отправляешься в особый образ путешествия, в котором ты создаешь миф, и в эту же секунду оказываешься его участником. Образ этого путешествия и есть начало новой процессуальности. И, собственно, без этого не может состояться новая сакральность, то есть те самые перемены векторов и соотношений, когда настоящее время будет актуализироваться при помощи ритуала.
Это и есть мифотворчество, понимаете? Ты же и делаешь это, когда ты этим занят. Но ты занят этим без дистанции. Дистанция остается – это твоя семейная жизнь, твоя частная жизнь. Она все равно остается. Ты туда не лезешь. Ты не перевоплощаешься.
Но при этом ты получаешь три территории, чтобы осуществить этот процесс. Первое – это собственно профессиональная территория. Для театра это режиссерский разбор, репетиции как следствие этого разбора. Ты должен иметь дело с текстом в данном случае и выйти из-под его власти. Ты должен отправиться туда, где пребывает речь, а потом выйти из-под отношений с речью. Вот этот путь, который тебе предстоит (выйти из-под власти текста), ты можешь делать только при помощи текста.
И тогда ты начинаешь работу с понятиями, спрятанными в этом тексте. И вот в этот момент, на территории этой работы с понятиями, без которой ты не можешь двигаться по тексту, ты обнаруживаешь Сад как миф о Саде. И при помощи этого мифа преодолеваешь этот текст.
Ты говоришь, что Чехов – конечно, это Махатма, это не салонная пьеса, это не рассказ о красоте, зажатой между двумя апокалипсисами (это наиболее продвинутая интерпретация этого текста, которой вообще достиг ХХ век). Она была сделана Васильевым на территории его спектакля, который не имел прямого отношения к «Вишневому саду». Но на самом деле там как бы и воплощался Сад. Красота, зажатая между двумя апокалипсисами. Слышите катастрофическую перспективу и текст? Платоническое массирование определенных органов. Это Платон. Красота, понятие.
Ты говоришь: «Сад – это не место, где проживает красота, это место, где проживает счастье». То есть ты говоришь: «Сад – это счастье, а Сад – не красота». В эту секунду ты вышел из-под власти Платона. Но это не благо. То есть калокагатия – красота, благо телесности, духовности. Это не платонизм, даже не неоплатонизм. Это счастье.
Дальше ты утверждаешь: «Счастье неуничтожимо». То есть ты говоришь: «Сад неуничтожим». Тем самым ты развернул бесконечную перспективу неуничтожимого счастья. А русскому человеку это так понятно. Ему абсолютно насрать на красоту, быть бы счастливым. Все понятно. Меня стали понимать дети, которые поступили ко мне. Зачем про красоту? Долго воспитывать свой вкус. Непонятно, что такое красота, что такое уродство. Здесь тебе говорят про красоту, там тебе говорят от нее избавиться, иначе ты перестанешь быть современным художником. Все какая-то фигня. То есть для варвара красота не имеет никакого значения, а счастье имеет.
Это начало. А дальше ты начинаешь выстраивать целый космос. Ты говоришь, что Сад неуничтожим. Дальше ты говоришь о том, что там не живут люди. Потому что мы что, хотим про людей рассказывать? Нет, не хотим мы про людей рассказывать. Это садовые существа. А что такое садовые существа, чем они отличаются от людей? Jни могут, если захотят, играть в людей. Они забавляются тем, что играют в людей. В их страсти, в их катастрофы. А на самом деле они садовые существа. А как они живут? А они двигаются по регенерации. Потом они уходят в туннель, в котором они исчезают из телесности, из всего. И дальше они из него выныривают с новой огромной игрой. А что это за игры? А это сакральные игры.
Например, что происходит в первой регенерации? Мы вступили уже в первую регенерацию, мы уже стали садовыми существами. Садовое существо Гриша, который постоянно умирает с удовольствием. И за этим очень любит наблюдать садовое существо Раневская. Гришенька у нее тонет, потом он опять возрождается. Потому что они же неуничтожимы, садовые существа.
Хочется делать объекты. И вдруг мы обнаруживаем, как Сад начинает вырастать из-под текста, из-под речи, превращается в огромное количество объектов. Возникает вот этот тонущий Гришенька, переводы Пети. Мы вдруг все стали художниками.
У нас возникла стратегия захвата. Кто против Сада? Город. Город хочет захватить Сад, прокрасться туда, уничтожить Сад. Это мы сейчас знаем, что Сад неуничтожим. Но когда из туннеля регенерации, то есть рождения и смерти, выходят садовые существа, они об этом ничего не знают. Они заново принимают законы Сада. И только к финалу, когда им всем кажется, что его вырубают, то они узнают, что он неуничтожим, и что вырубка Сада – это сакральный анекдот, аттракцион, в который они с удовольствием, оказывается, играют. И это их очень радует, всех этих садовых существ. Возникает огромная возможность быть аватарами Сада. Все становятся аватарами Сада, начинают в это играть, делают кучи объектов, начинается захват Города Садом. Это все первая регенерация.
Чехов же наша сакральная фигура, он Махатма наш. Мы каждый слог его изучаем. Они все говорят, Фирс, например, говорит: «Пришли-с». Знаете, как? Так вот это «с», что такое это «с»? Мы читаем это как Тору, похуже даже. «С» – это прибытие Сада. То есть он говорит: «Здравствуйте-с-с-с-с-с-с», – это садовое существо захвачено Садом. «С-с-с-с-с-с». То есть возникает совершенно реально группа товарищей, играющих в «Вишневый сад», выглядящих, как абсолютные сумасшедшие. Сейчас я вам покажу. Но я вам покажу уже пятую регенерацию. Я миную четыре. Сейчас кусочек давайте посмотрим из «Сада».
Это огромная вещь. Я там был гуманоид Иван. И я подчеркивал, уже в 1990 году: я не гуманист, я – гуманоид. Давайте друг друга начнем понимать. Меня человек не интересует. Меня интересуют садовые существа. Давайте посмотрим, как садовые существа играют Чехова, в пятой регенерации «Сада». Возьмем садовое существо Аню, садовое существо Петю, и они играют финал. А дальше сюда еще войдут прототипы садовых существ, которые пришли, конечно, к нам позже – люди с Даун-синдромом, и влились в нашу игру. Потому что я в них различил вдруг реально подаренных мне садовых существ. Так всегда бывает.
Вот возникло понятие «миф-мир». «Миф-мир» – это особое понятие. Мир – это то, миф – это это. Возникает особого рода игра, способ структурации текста, при помощи которого ты выходишь за его пределы, и тому подобные вещи.
Здесь, конечно, очень важна акустическая среда. Ее сейчас невозможно ощутить. А тут, если говорить с точки зрения действия, то это все связано нерасторжимо. Перкашн, который идет, и их ведение – это одно и то же. Поэтому надо слышать звук иначе совершенно. А здесь просто такие носители, что вы не различаете, о чем они говорят.
Для меня это очень большая травма смотреть весь этот архив. Поэтому я покажу вам одну сцену. Поэтому я никому ничего не показываю никогда. Ни своих фильмов, ни своих спектаклей. Когда я говорю, что хочу открыть архив, это для меня очень большой подвиг коммуникации, если честно. Поэтому посмотрите одну сцену, и все.
Вы посмотрели фрагмент из пятой регенерации. Это же бесконечный проект. Дальше «Сад» еще развивался, десять лет мы делали этот проект, с практически неизменной компанией. И он пережил восемь регенераций. Регенерация – это принципиальная парадигматика, которая разворачивается в целый мир, когда существа выходят.
Например, первая регенерация. «Сад» находится в реальности и выделен из нее, реальность его атакует. Он назывался «Сад, который здесь».
Вторая регенерация: он проживается дальше. Проживается он на трех кругах: профессиональный круг, жизнетворческий круг, где я работаю. Например, я делаю объекты. Вот Олег Хайбуллин. Выдающийся парень. Он – Петя. Вот он делает переводы Пети, он делает разные акции, он становится художником. Но это не художник Олег Хайбуллин, понимаете? Это Петя Трофимов – художник. Начинают возникать объекты, делаются разного рода акции от имени Пети. В этом смысле Петя выходит из текста, в прямом смысле, и оказывается деятелем фигуры жизнетворческой.
Дальше жизнедеятельный уровень. Жизнетворческий уровень – это тоже огромная территория. Ее надо познавать, понять, с ней надо работать. Без нее новую процессуальность не сделаешь. То есть миф постепенно начинает набирать свои обороты. Он выходит в мир, и там, в миру продолжается, как миф. Возникает эта дихотомия «мир-миф», и с этим начинается работа. Моделирование как принцип остается, но в виде модели поступает перед играющим, перед компанией «мир-миф».
И это очень уже довольно сложные вещи, требующие других типов речи. Речь бывает, например, излагающая. Речь бывает импровизирующая – например, я импровизирую стихи: «Сегодня вдруг качнулся берег яхты. Да, я сравнил ее своей землей. И что случилось? Дед Пихто, как Яхва, пришел ко мне, и тронул нас слюной. И что случилось? Дед Пихто, как Яхва, ты тронул нас слюной. И дальше что? А Дед Пихто – вот дальше что». Вот я импровизирую. Сейчас сочиняю стихи. Простое дело, но в духе такого абсурдийского шалопайства. Это импровизирующая речь. Ее можно тренировать, и дальше можно разворачивать с мгновенной структурацией, со всеми делами, играми. Это прекрасный речевой тренинг.
Излагающая, пересказывающая речь. Можно пересказывать научное открытие, можно пересказывать кино. С точки зрения принципа речи – это то же самое.
А в высшей стадии речи – это потребовалось разработать речевую методику, иначе ничего не получится. Это эвристичная речь. Что такое эвристичная речь? Это речь, в процессе развертывания которой здесь и сейчас происходят реальные открытия. Ты реально обнаруживаешь состав мира, потому что ты выводишь интуицию на такую энергетику, в которой она становится приемником, как антенна. И мир идей делится с тобой, и делает тебя проводником, и дает тебе возможность совершать реальные открытия. Если вы посмотрите на речи подлинных философов – например, как разговаривает Пятигорский. Вы увидите, что они всегда работают в режиме эвристичной речи. И это особого рода речь, которая ими же самими не изучена.
– А Сократ?
Б.Ю.: Сократа мы же не можем увидеть по телевизору. Ну, кто-то видел, может быть, но от нас это скрывают.
А что противоположное эвристичной речи в культуре? А противоположна ей болтологическая речь. Речь, в которой ты не можешь сказать ни одной идеи, ты должен избежать… «Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Глаз заплывает рыбой. Темные педали уходят на собакино кино». Это особого рода болтологическая речь, в которой ты ускользаешь из-под каких-либо связей. Это практика андеграунда второй половины 1980-х годов. Мы создали академию болтологии, то есть особого рода академию, которая занималась искусством болтологической речи. Чтобы стать академиком болтологии, надо было прогнать телегу на час, в результате которой никто бы ничего не понял, никогда. И не мог бы ничего с этим сделать. Прогнал телегу на час – стал академиком болтологии.
Итак, болтологическая практика, то есть выход. Это есть реальная практика, на самом деле. Выход из-под какого-либо смысла с непрерывным течением речи. И эвристичная практика, то есть постоянное воспроизводство очень существенных, реально работающих машин смыслов. Вот здесь разворачивается тот диапазон, который определяет возможность для гуманоидальной позиции в новопроцессуальном искусстве, которому можно тренироваться и который можно обретать, на какой-то свободе проявлений. И это те типы речей, которые никогда не окажутся текстами.
Дальше, следующее развитие. Забегу вперед – сейчас я эти связи просто не успею выставить, потому что я вас перегружу. Следующее развитие вот этих отношений – это так называемый священный стэнд-ап и брутальная поэзия. Это механизмы, инструменты, которые я выработал специально для обращения с реальными священными текстами, когда новая процессуальность перешла в отношения с иудаизмом. Я стал изучать иудаистические практики в целях новой процессуальности, и создал такой проект, который назывался «ЛабораТория». Я, конечно, рассказываю отдельные аспекты новой процессуальности.
Теперь вернусь к третьему кругу. Я специально вскочил в сознание, чтобы вас запутать, чтобы вы не прошли по моим следам и не ограбили меня. Все плохие. Все человеки.
Итак, третий круг – жизнедеятельный. А что это такое? Жизнетворческий круг – это не круг, где работает человек. Это его баловство, это его приключения, это разного рода свободные проявления, где он играет. Профессиональный круг – это тоже нельзя назвать работой. Там он исследует.
Между прочим, есть три идеи об искусстве. Целительная: это мы все знаем – арт-терапия. Искусство как познание: это до сих пор считается большим приключением, серьезным, уважительным. Все говорят: «Искусство – познание». Полная фигня. Единственное, с чем мы можем более-менее согласиться, что искусство – это созидательная идея. Но в чем фокус? Я устал, поэтому начинаю баловаться. Это просто часть моей брутальной поэзии, которую я уже начинаю забирать.
Итак, искусство как созидание. Созидательная идея включает в себя и целительную, и познавательную. На этом построена новая педагогика. Если вы понимаете, как они туда включаются, вы можете очень продуктивно работать сегодня с самыми разными сферами.
Вы видели, там вышли люди с Даун-синдромом? Вы что думаете, я что-нибудь понимаю в их болезни или в их здоровье? Ничего. Я просто их люблю, и я с ними как с художниками работал практически около семи лет. Это все – проявление новопроцессуального проекта «Сад». Я просто когда с ними встретился, я понял, что это абсолютно садовые существа, только в реальности живущие. Вышел с ними на контакт, как гуманоид с инопланетянами, и поехало.
И дальше внутри «Сада» родился проект, который называется «Да, дауны». Где дауны комментируют мир. И они прокомментировали философию, политику, искусство и всякое другое. И я сделал мастерскую, где они занимались. Они ставили спектакли – что-то невероятное.
Но это проект внутри «Сада», внутри этой новопроцессуальности. Это большой рассказ, куча артефактов. Это совсем другое (хотя это в чем-то, наверное, предтечествует этому), чем то, что сейчас принято называть новой толерантностью, работы с другими людьми и так далее.
Я их не просто различал, как других людей, я их различал, как инопланетян. Мне в голову не приходило их лечить или вообще прививать этой вшивой цивилизацией. Ни в коем случае! Я хотел стать дауном, это было мое единственное желание. И я им стал, как вы видите. Все! Возможно, это самый успешный мой проект. Иногда становлюсь нормальным. Но я стремлюсь им стать, правда.
Дальше, жизнедеятельная. Про профессиональную понятно – такая работа в виде познания, процессуальная работа, похожая на то, что называется «репетиция». Жизнетворческая – это очень широкая площадь. Именно в жизнетворческом пространстве на самом деле произрастает все современное искусство. Оно выдает себя за серьезное дело. На самом деле это жизнетворческая территория. Это огромный, очень важный круг, полностью подчиненный индуктивным веяниям.
Третий уровень, без которого не может возникнуть новопроцессуальное излучение, – это жизнедеятельный уровень. Вот все, что обеспечивает ваш труд, надо различить и подчинить мифу. То есть там, где находится жизненная деятельность этого проекта. Там должен оказаться каждый его участник. Тогда вот эта технология и практикум, когда миф начнет разворачивать – вот когда заработают три круга и ты с ними очень ответственно обращаешься, тогда новопроцессуальность начнет развиваться, дышать и достигать своих шедевров, которые уже начали во времени появляться.
Например, Илюша Хржановский – мой очень близкий товарищ, и в каком-то смысле он мой учитель, я его учитель, ученик и учитель, – делает проект «Дау». Вот это – шедевр новой процессуальности. Обязательно работает на трех кругах, поверьте мне.
Их сейчас очень мало, проявлений этого типа проектирования. Потому что это – искусство будущего, новая процессуальность. Но вот эти три круга будут работать до самого конца, уверяю вас. Это практически аксиоматика. Назовем его «профессиональный», условно «репетиционный» – как угодно, жизнетворческий и жизнедеятельный.
Чего, например, были лишены символисты, когда они открыли жизнетворческую территорию? Это же открытие, равное Эйнштейну. Они были лишены как одного, так и второго. Они не знали ничего про жизнедеятельный круг, ничего не знали про так называемый профессиональный. Поэтому они и остались в символистской культуре, стали стреляться друг с другом и вообще чокнулись, как Блок. Умнейшие, талантливейшие люди. Или, как Белый, по ошибке приникли к телу. Это время было такое.
А надо понять, что новопроцессуальное искусство и новомистериальное искусство возникает только тогда, когда ты понял, что надежда на перетаскивание из прошлого на реконструкцию обречена, ты должен расстаться с этой надеждой. Реконструировать ничего невозможно. Все это навеки потеряно! Только если вы встретитесь с этим в будущем. У вас есть только ваша интеллектуальная, эмоциональная и созидательная интуиция – больше ничего нет у человечества. Это надо понять. Надежда на книжки, на заимствование каких-либо ритуалов – все это обречено абсолютно и вырождается или в профанацию, или в торговлю, или в культуризм. Особого рода магистральный культуризм, когда выходит актер и показывает, как он освоил сакральные техники. И все говорят: «Да». То есть это аттракцион.
Но это не аттракцион, который актуализирует настоящее время. Это аттракцион, трюк, который актуализирует несуществующее время. А тогда это профанация, псевдореконструкция и тому подобные вещи. И вот эти границы надо различить однажды всеми фибрами своих попыток в это во все втянуться. Тогда это становится абсолютно понятным, и с этим ничего уже не сделаешь. И приходится уходить в другую сторону, которая называется «новопроцессуальное искусство».
Итак, вот я про три круга рассказал, чуть-чуть намекнул. Соответственно, это очень острое отношение мифа и мира. Миф постоянно развивается. Свойство мифа очень простое (которое вы создаете): он не может завершиться сам. Он как бы такой источник бесконечности, один из источников.
Вторая очень важная слагающая (все это работа) связана с особого рода триадой, которую я вам сейчас расскажу. Это личность, сущность…
Вот надо вам понять сказку об отношениях личности и сущности. Что такое «личность»? Не надо ей передоверяться. Вся эта русская философия, бердяевская, например, которая очень рассчитывала на личность, серьезно ошиблась, и надо это признать. По сути личность – просто коммуникатор. Не будем ей придавать много значения. Она – коммуникатор, она жиреет, как кровосос, на коммуникациях, и тогда она разрастается, становится чем-то. Вот и все. На самом деле личность – это коммуникатор.
А сущность? А сущность спит. Юнг называет это самостью. Все они всё это называют. Сущность спит. Лучше всего про сущность почитать каких-нибудь подлинных христианских мистиков, например, Майстера Экхарта. Вот он пишет про сущность очень хорошо. Но это тоже все поэзия. По сути, сущность спит. Сущность – это огромный источник универсальной интуиции человека в ракурсе моего рассказа. Но добраться до него практически невозможно. Вся педагогика, вот эта созидательная практика – очень, в принципе, ассенизаторская.
Сущность ждет сигнала от личности. Личность выделена, она в миру, она все это делает, тренируется, живет на этих трех кругах. Она всем этим занята. Это все личность. И я пока рассказываю о приключениях личности. Но личность не имеет силы осуществлять работу с творением. И она не имеет сил на самом деле осуществить такой вызов, который делает перформанс. У него два вызова. Первое: это научиться работать, высокая фабрика. И это высокая фабрика – с изделием, со всеми механизмами.
Флоренский прекрасно определил отличие организма от механизма. Механизм – это когда предыдущая часть связана с последующей, и все. А организм – это когда каждая часть связана с целым. Это не окончательное, еще не определение творения. Но это уже органическое, это определение отличия неорганического от органического. Может ли быть органическим изделие? Может быть. И тут Флоренский кончается. Органика не есть залог творения. Это то же самое изделие, биотехнологии. Поэтому мы сейчас об этом не говорим. Мы хотя бы просто жизнь различили от смерти, при помощи Флоренского. Хотя бы частично. Целиком мы никогда ничего не различим.
И дальше. У перформанса есть настоящая миссия, которую он не выполняет очень давно: быть источником нового вида искусства. Вот что такое перформанс. Все думают, что это вид искусства. Это не вид искусства. Это особого рода место, волшебный роддом, где должны рождаться новые виды искусства. Это какая-то цель или рождение. Вот что такое перформанс. Это а) операция с изделиями, б) место. И это особого рода парадокс о перформативном. Но я сейчас просто укажу на него.
А новая процессуальность в силу того, что это источник новых видов искусства, которое не оставляет за собой след, и есть в этом смысле выражение перформативного как такового. И на ее территории в принципе снята оппозиция между изделием и творением в виде плода. Поэтому «Сад». Плод, «Сад», оплодотворение и так далее.
Итак, вот мы добрались до триады: творение, плод, изделие. Не буду на ней останавливаться, она очень полезная, особенно в наши времена. Если вы начнете различать взаимодействия творения, плода и изделия, вам многое откроется на путях нас поджидающего будущего, в частности, социального, политического будущего. Потому что политика будущего связана с таким утверждением (помните о Флоренском): часть больше целого. Вот надо добраться до такого рода новой этики.
Это парадоксальная этика. Она, конечно, начинается у Левинаса. Потому что одной из проблем, которые с легкостью решает новое процессуальное искусство – это этическая и эстетическая, и их противоречивость. Ведь невозможно утверждать мораль, например, либертианскую, мораль свободы, мораль демократии, а технологию при этом путать с тоталитарной. Ты как бы остался дирижером, а в глазах у тебя горит симфония Бетховена.
Что это такое? Дирижер, режиссер, регулировщик, дрессировщик – это все профессии, возникшие во всем своем блеске в ХХ веке, это все образы тоталитаризма. Привяжите их все к Иосифу Благословенному, или к еще каким-нибудь ребятам из этой шараги. И вы увидите, что они и регулировщики, и режиссеры, и дирижеры. И сразу у вас возникают эстетические импульсы, прямо формируется СС-овская красота, и красота как таковая. Источник ее – тоталитаризм. Поэтому надо выйти из-под отношений с красотой. К счастью, например. И тогда вы избавитесь от захвата красотой.
Потому что это все – псевдонимы тоталитарного. А тоталитарное уже различено, дано нам в своем подлинном явлении. Оно различено во власти энергии, механизма – над человеком, над творением. Любая власть, которую испытывает человек по отношению к творению, и есть источник тоталитарного. И только так надо понимать власть. Власть саму по себе невозможно понимать атеистическим сознанием. Ее можно только понять в отношениях с творением. Тогда власть оказывается стихотворением. Что бы я сейчас ни сказал.
Власть есть власть. Власть над творением. Потому что что такое власть над железом? Никакой власти у тебя нет над железом. Ты его обрабатываешь. Это оно тобой властвует. Изделие рождается, когда ты лишен власти. Чтобы создать изделие, надо лишиться иллюзии власти. Ты должен обслуживать железяку, механизм компьютера и так далее. Ты все это будешь обслуживать. Свой дом. Если у тебя жена в виде изделия – свою жену. Всех. Если у тебя страсти, как изделия твои – будешь их обслуживать.
А творение – тут можно властвовать. Вот возникает соблазн, тоталитарный импульс. Выйти из-под этой оппозиции красоты и счастья (назовем ее так) очень трудно. Это значит снять оппозицию между эстетическим и этическим.
И путь к этому предлагает прекрасный, замечательный Эмануэль Левинас. То есть экзистенциальная по сути философия, достигшая своего предела. Он говорит о понятии другого, об этике отношений с другим. И вдруг ты оказываешься там, где возникают отношения. А другое – это и есть Господь Бог, это и есть творение. Вот что такое другое. И как только ты это понимаешь, ты получаешь технологию общения с творением. Это Левинас. Поймите, это очень серьезно.
Друзья, я завершаю. Восемь регенераций «Сада». То есть целое десятилетие компания людей (слышите дальнюю барабанную дробь перформанизации), десять лет эти сумасшедшие занимались одним и тем же текстом. Пережили восемь регенераций, то есть сформулировали девятую. Я бы вам мог показать, во что они превратились на территории восьмой регенерации, но оставлю до следующих встреч.
Таким образом, я прошел новопроцессуальный путь. Это путь множества новопроцессуальных проектов. Был проект «Дворец» во второй половине 1990-х, мне пришлось объявить там себя королем, я изучал дворец. Что такое «Дворец»? Дальше я создал такое понятие, как «веер проектов», новая система коммуникаций. Возникла необходимость выговорить теорию коммуникативных связок.
Дальше я сделал еще целый ряд новопроцессуальных проектов. «Кристалл». То есть, по сути, я заметил, что занимаюсь особого рода архитектурой. Я стал впервые переживать философию как архитектуру. Это произошло у меня во второй половине 1990-х годов. Я увидел ландшафт, в котором я разбиваю сад, выстраиваю дворец, делаю поселение (это «Кристалл»), там у меня в этом поселении поселились, ангелы. Я сделал ЛАР – лабораторию ангелической режиссуры.
Я вдруг понял, что одно из самых привлекательных мест для практической художественной философии – это ландшафтное переживание мира. И это, надо признаться, меня очень порадовало. Потому что это же статика, кажется, а на самом деле это какое-то невероятное выражение новой процессуальности, вот такая ландшафтная архитектура.
Конечно, у проекта же масса стадий. Тело новопроцессуального проекта, если так парадоксально сказать, невозможно различить. У него всегда есть артефакты, есть проявления. Вот вы – и я вам благодарен – сумели выдержать 10-15 минут вот этого эпизода «Сада».
Но чтобы различить свойства новопроцессуальности, надо снять оппозицию между этикой и красотой, надо оказаться в темпоральной реальности, не виртуальной. А «вирту» сейчас приходит к нам, я слышу дыхание этих миллиардов, которые Google уже вкладывает в виртуальную реальность. Я слышу, как новые бессмертные шествуют в эти лаборатории виртуальной реальности.
Но я – мастер темпоральной реальности, я здесь и там. Я был и буду. Я художник, художественный руководитель Электротеатра. Поэтому я с большим вниманием отношусь к виртуальной реальности.
«Вирту» ждет. Но я говорю о темпоральной реальности, то есть о реальности, разворачивающейся в кажущейся нам временной стихии. И там, собственно, проживает новая процессуальность. Аннулируя по пути иллюзию времени, но полностью этой иллюзией пользуясь. И тогда мы видим не время, а стадии. И тогда мы оказываемся в этом вселенском Талмуде, где нет времени, но есть стадии и правила, и их эволюция. И тогда мы можем наполниться этой новой этикой, и пережить чувства какой-то новой гармонизации мира. Основой этой гармонии оказывается другие основания для гармонии.
Дальше новая процессуальность. Я просто хотя бы перечислю стадии. Вот «Сад» – открытие новой процессуальности. В нем множество проектов, даже созрела целая (я воспользуюсь классическим термином) роза проектов. Возникла стадия, которая называется «новое пространство коммуникации». Чем оно обеспечено? Это и есть новые медиа, на самом деле. Вот когда ты запускаешь несколько новопроцессуальных проектов во взаимодействии друг с другом. Вот я сейчас чуть-чуть намекнул, как устроен «Сад».
А теперь представьте, есть еще не менее значимый проект. А теперь представьте, что они стали взаимодействовать друг с другом. Вот тогда возникает удивительное пространство, ландшафты будущего. Там возникают такие энергии, такое дыхание, открываются такие возможности для творчества! Это же все невидимые вещи. Вы же в единицу измерения можете увидеть и услышать только часть. А это же все располагается во времени! А вот то, что я условно назову энергией коммуникации – это какое-то не совсем точное слово, потому что «энергия» слово не очень хорошее. Силы коммуникации-то пользуются всем этим темпоральным телом. И они как бы даруют невероятную атмосферу, климат (в Саду, вообще-то, не атмосфера, а климат). Отдельно есть такое понятие как «атмосфера», профессиональное, в драматическом театре.
И это новый тип фестиваля, или новый образ жизни, в котором новые пространства, новые процессуальности определяют, например, облик Города, ландшафты жизни поселенцев на других планетах и так далее.
Потому что новая процессуальность – это то, что предстоит будущему. И вот эта работа с ней только началась. И мне выпало счастье быть одним из тех людей, которые это сообщают и изучают.
Дальше я стал заниматься проектом, который назывался «ЛабораТория». Тут мы имеем дело со светским текстом. Мы его сакрализовали. Возникло новомистериальное искусство, миф, мир и все техники были выяснены. Дальше он как-то отошел. Он не кончился, не умер. Просто он сейчас для меня перестал быть актуальным.
Теперь мне осталось договорить про сущность и личность, и просто указать на то, о чем я хотел вам рассказывать, но не буду – это «ЛабораТория». Меня стала интересовать диалектика искусственного и естественного, священного и игрового. Я захотел понять, зачем евреям театр, если у них есть Тора. И тому подобные вопросы. Я стал работать с выдающимися раввинами. Они вступили в игру, стали участниками новопроцессуального проекта. И на протяжении более чем семи лет я занимался «лабора» (это античное, латинское «работы») «Тора», «работа Торы», «ЛабораТория». И как результат – это огромное исследование. Вот там возник священный стэнд-ап, брутальная поэзия. И это все встретилось с серьезными штудиями кабалистического характера и так далее. Все это я потом выговорил и артикулировал в сторону новопроцессуального искусства.
Все это в этом режиме «Я открываю архив» начнет выходить уже в этом году.
И последнее. Я сказал «личность», чуть-чуть указал на «сущность». Так вот, невозможно стать участником новопроцессуального проекта, если у тебя сущность не связалась с личностью. Поэтому педагогическая, технологическая проблема – заставить сущность работать на личность. А сущность – это сама откликчивость. Сущность – в нем нет ничего хапужнического, он же представитель творца в творении. И что же делать? А личность не может достучаться до сущности. Сущность будет спать. И очень часто она спит всю вашу реинкарнацию. Может не проснуться и в следующей. Что делать? Заняться новопроцессуальным искусством.
Что происходит в этот момент? Начинает образовываться, казалось бы, очень странное тело. Внутри, в незримом пространстве. Сказка. Возникает, образовывается особого образа кристалл в человеке, который может донести запрос личности к сущности. И называется этот кристалл «универсальный потенциал личности».
Итак, я завершаю. Надо, чтобы этот кристалл заработал. Это называется «новоуниверсальный потенциал личности». Он включается только на созидательных практиках. В момент, когда люди вступают условно в эту стадию, которая в «Саду», например, называлась «первая регенерация», и начинают работать, как свободные художники. Здесь не может быть ни контроля, ни репрессии. Это очень тонкий метод.
Там еще много всего остального есть. Потому что ты понимаешь, что работаешь с гением. Какой контроль? Какая репрессия? Ты с гением взаимодействуешь. Каждый человек – это гений, другой. Это простые этические основания. И тогда он начинает работать вместе с тобой, относясь к тебе точно так же. Нет никаких иерархий. Какие иерархии? Кто самый важный? Только дети знают, кто больше, верблюд или слон. Слон больше, но верблюд важнее. В пустыне, например.
Поэтому все искусство педагогики – это искусство развития универсального потенциала личности. И тогда он начинает работать, как коммуникативный. Это и есть новая медиа в человеке, в творении. И по нему от личности идет призыв к сущности, сущность пробуждается, и возникают чудеса. Открываются возможности человека. И тогда этот человек содействует саморазвитию проекта.
Дорогие друзья! Я вам обрисовал некие понятия из новопроцессуального космоса, из этого искусства.