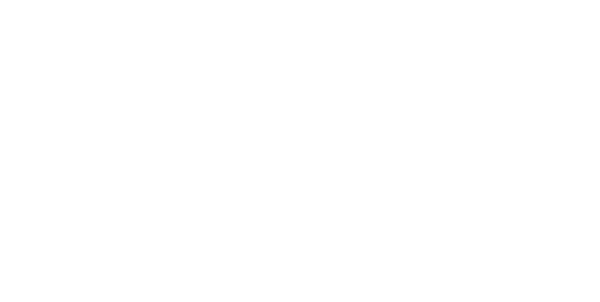Глава Итро (Исход, 18:1–20:23)
Гость выпуска: Борис Юхананов — театральный и кинорежиссёр, теоретик и педагог, художественный руководитель Электротеатра Станиславский.
Ури Гершович (У. Г.): Сегодня мы поговорим о недельном разделе Итро. Так зовут тестя Моисея (в синодальном переводе — Иофор). И сегодня у нас в гостях художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов. Боря, привет!
Борис Юхананов (Б. Ю.): Привет, Ури! Я сижу в своём кабинете в Электротеатре Станиславский. Вижу тебя и разговариваю с тобой.
У. Г.: А я сижу в Иерусалиме, и, как всегда, начну с обзора того, о чём говорится в этой недельной главе.
Начинается всё с того, что Итро — тесть Моисея, мидьянский жрец — идёт к Моисею. Он взял Ципору — жену Моисея, двух сыновей её, и приходит к Моисею, услышав о том, что евреи вышли из Египта. И его роль оказывается достаточно важной, потому что он видит, как Моисей разбирается со всеми тяжбами внутри народа Израиля, и говорит: «Так ты не справишься, нужно создать какую-то систему». И по его совету Моисей действительно создаёт некую структуру подчинения — назначает людей, которые руководят сотнями, пятидесятников, а также людей, которые ответственны за десять человек. Возникает своеобразная иерархия. Это первая часть недельного раздела.
А затем Бог говорит Моисею: «Взойди на гору», и там рассказывает ему о том, что Он должен передать народу Израиля.
Вы видели, что Я сделал египтянам, вас же Я носил на орлиных крыльях и принёс вас к Себе. И вот, если будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим дражайшим уделом из всех народов. Вы будете у Меня царством священников и народом святым.
– Вот слова, которые ты должен сказать народу Израиля, — говорит Бог Моисею. Затем Он говорит о том, что они должны подготовиться к дарованию Торы на горе Синай.
Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдёт Господь пред глазами всего народа на гору Синай… И вот, на третий день, при наступлении утра были громы, молнии, облако густое на горе, звук шофара весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. И вывел Моше народ навстречу Богу из стана, и стали они под горой.
А гора Синай дымилась вся от того, что сошёл на неё Господь в огне, и восходил дым от неё как дым из печи. И тряслась вся гора чрезвычайно, и звук шофара становился всё сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом.
Затем следуют знаменитые десять заповедей — декалог. То есть Бог излагает десять заповедей, которые я сейчас перечислять не буду, а хочу отметить только один интересный момент:
Народ весь, увидев эти громы и молнии, услышав звук шофара, вздрогнул и встал поодаль. И сказали они Моисею: «Говори ты с нами, мы будем слушать тебя. Пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрём». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, ибо для того, чтобы испытать вас, пришёл Господь. И чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей подошёл ко мгле, где был Бог.
Собственно, в этом и состоит содержание главы с изложением десяти заповедей.
Фрагмент спектакля «Сверлийцы»:
Если букву вав и букву йуд поменять местами, чтобы йуд встала между двумя хэй, то на иврите получится вэ-айя («и было»). Типичный танахический зачин: «и было так».
У. Г.: В возрасте более тридцати лет я впервые прочитал эту историю. Я тогда совсем ничего не знал об иудаизме; впервые, можно сказать, открыл эту книгу. Мне показалось, что описание исхода народа из Египта и дарования Торы, в каком-то смысле, является символическим изложением творческого пути человека. Такое у меня было наваждение. Так мне показалось, что человек выходит на свободу, но, выйдя на свободу, он не может ничего делать.
Чтобы начать что-то делать, ему необходимо получить закон. Здесь, конечно, получение закона описывается в красочных терминах — и гром, и молнии, и шофар, и страх определённый. Но мне казалось, что это и есть внутренний процесс человека, который идёт к какому-то варианту творчества, к нахождению себя в творчестве.
Боря, к тебе вопрос. Насколько эта моя тридцатилетней давности интуиция кажется тебе достойной внимания? И если да, то в какой мере это имеет отношение не просто к творчеству, а к театральному делу?
Б. Ю.: Я бы сказал, что это вполне возможный ракурс, благодаря которому можно выстроить связь между тем, что происходит в театральном искусстве, и этой главой.
А не в этой ли главе сказано: «сделаем и услышим»?
У. Г.: Нет, не в этой.
Б. Ю.: В следующей?
У. Г.: В следующей главе, да.
Б. Ю.: Но, в каком-то смысле, «сделаем и услышим» — это часть самого акта дарования слов и тех смыслов, тех велений, которыми окутан этот акт. Поэтому, если позволишь, я коснусь этого момента, хотя он напрямую не связан с обсуждаемой главой.
У. Г.: Чтобы ты коснулся, я тоже добавлю кое-что от себя. «Сделаем и услышим» — это народ так откликается. Он сначала отправляет Моисея, чтобы тот всё выслушал и им передал. А потом, в следующей главе, когда Моисей уже приходит с законами и предлагает их народу, народ говорит: «Сделаем и услышим». В Талмуде этот момент трактуется как то, что народ поднялся на уровень ангелов, потому что только ангелы могут отвечать: «Сделаем и услышим», а человек должен сначала услышать, потом сделать.
Б. Ю.: Я сразу по ассоциации скажу. У меня была Лаборатория ангелической режиссуры (ЛАР) — один из множества моих опытов. Это происходило в начале нулевых годов. И чуть позже, параллельно с Лабораторией ангелической режиссуры, я начал вести огромное исследование, которое так и называлось — ЛабораТория. В результате передо мной открылась «Повесть о прямостоящем человеке», который принимает от Творца Завет, отказывается от него, потом принимает его опять, и в конечном итоге встречается и полностью отдаётся Творцу. Я очень коротко рассказываю.
Фрагмент спектакля «Повесть о прямостоящем человеке»
Б. Ю.: Я только сейчас вдруг осознал, что принципы, на которых строились ЛАР (Лаборатория ангелической режиссуры) и спектакль «Повесть о прямостоящем человеке», во многом были построены на этой последовательности. При помощи интуиции, при помощи практики, связанной с классом, а потом уже со сценой, мы стремимся открыть в себе игру, и в данном случае — даже речь. Если выйти шире, в театр, то, конечно, это огромный парадокс, касающийся сегодняшнего времени, не только моего опыта. Это по-разному называется — метамодерн, новая коллективность, горизонтальные связи. О них бесконечно говорят в искусстве — в частности, в таком интенсивном процессуальном искусстве как театр. Обсуждается попытка устранить так называемые тоталитарные фигуры, в технологическом смысле. Говорится, что пора уже всем быть на равных. С этим я абсолютно солидарен — конечно, надо уважать людей, быть с ними на равных, любить их, даже чувствовать себя меньшим из всех. Всё это правильно и замечательно, потому что театр — искусство коллективное.
Но я сейчас посмотрю с точки зрения тестя Моисея. То, что предложил Итро — это, по сути, адекватное обращение с функциями, которые спрятаны в этом сложнейшем процессуальном искусстве, и не только в искусстве. И эти функции кто-то должен исполнять. Эта технология подразумевает определённые функции, без которых принять и совершить что-либо будет просто невозможно.
У. Г.: В этом и заключалось моё интуитивное ощущение, что такие функции есть у Моисея и у Аарона.
Б. Ю.: Это обязательный функциональный, с точки зрения искусства, аппарат, технология, инструмент, который надо обнаружить, назвать и привести в рабочее состояние. А в театре существуют разные функции — есть художники, композиторы, но главное — тот диалог, который происходит между режиссёром и актёрами. Они, конечно, повёрнуты друг к другу с разных позиций. Драматический театр, в принципе, изучает эти противоположности, их всегда необходимо раскрывать. Режиссёр противопоставлен актёрам, которым предстоит дальше играть, быть народом действующим.
Я сейчас коснулся такого понятия, как «действие». Это тоже поразительная вещь. Раньше в русской театральной школе был культ так называемого Станиславского. Не того Станиславского, кем он был — живым мастером театральной тайны, а того, которого в сталинское время превратили в догму и жупел, уничтожив все тайны театрального искусства. Так вот, этот Станиславский, в которого превратили живого и грандиозного мастера, подразумевал, что действие надо обязательно называть, желательно глаголами, желательно вставлять прямо в актёра, и дальше актёр как трактор должен двигаться по ходу действия под воздействием этих глаголов.
У. Г.: Но это превращение его в фараона, по сути.
Б. Ю.: Это превращение его в трактор. Сейчас мы коснёмся темы фараона, можно же по-разному понимать.
А подлинное искусство, которым владел и сам Константин Сергеевич, на уровне русской театральной традиции заключается в том, что действие называть нельзя. Оно обнаруживается только благодаря тому, что оно не названо. Для практики и опытов есть место, которое в театре называется «класс». И в этом классе, на территории этюдного метода и разных его модификаций, в отношениях с текстом, со сценой, с эпизодом, с ситуацией — это действие обнаруживается самой игрой. И вот когда оно обнаруживается — называть опять нельзя, его надо оставить неназванным. Его надо слышать, но не называть. Это очень тонкий момент. Когда в этюдной практике постепенно настаивается и открывается поведение, обусловленное неназванным действием, в артисте просыпается слух, который укрепляет и навсегда запечатлевает в нём внутреннюю структуру движения, с которой напрямую связаны действие и игра. И это, мне кажется, можно соотнести с тем фрагментом, о котором мы говорим — «сделаем и услышим».
У. Г.: Да, это замечательный дополнительный комментарий к «сделаем и услышим».
Б. Ю.: Речь идёт о голосе и страхе, и о вулкане, потому что в этом образе гора стала вулканом. Недаром даже в описании мы видим, что идёт дым как из печи.
У. Г.: Дым, огонь, да.
Б. Ю.: Это грандиозное обжигающее явление, от которого надо отодвинуться ещё и потому, что слишком жарко. И эта жара, этот огонь напрямую связаны со страхом.
У. Г.: Да, народ испугался.
Б. Ю.: Он испугался не только голоса, но и этого жара. Возможно, и голос, и жар, и огонь, идущие оттуда, были чем-то единым.
У. Г.: В тексте, кстати, есть замечательная фраза, которая, возможно, вызовет у тебя какой-то отклик. Там сказано: «и видели голоса». Видели!
Б. Ю.: Да-да, это синкретизм. Они их видели, я это почувствовал. Огонь и голос — они вместе.
У. Г.: Роим эт ха-колот — так это сказано.
Б. Ю.: «Видеть голос». И надо отодвинуться, быть на расстоянии. И нужен посредник, тот, с кем они могут вступить в отношения.
Скажу от себя, не буду претендовать на объективность. Речь идёт о театре как институции, во всём многообразии тех функций, людей, профессий, из которых он состоит; это огромный организм. Мы берём сейчас театр как некое единство — и архитектурное, и человеческое, и штатное. Рассматриваем театр — и как здание, и как людей, в нём работающих.
Ведь театр может быть проявлен в разных формах и в разных актах. Театром может оказаться никому не видимая акция где-то в джунглях, и только деревья будут свидетелями. Театр может быть бродиловкой (это было модно 10 лет назад) по разным особнякам, подвалам и музеям. Это тоже театр. Но, по сути, это компания, которая принципиально вышла из театра.
Я же буду говорить о «театре полноты». У меня есть такой концепт, важный для меня, — «театр полноты», то есть театр, который берёт на себя все удивительные акты свободы, на которые я сейчас намекал (их намного больше). Такой театр берёт на себя традиционный объём здания, людей, сцен, которые необходимы друг другу. И он оказывается в рамках широкой традиции, идущей из античности или из восточной культуры — японской или китайской. Всё это театр полноты. И когда мы видим этот потенциал, мы понимаем, что там необходим Моисей.
У. Г.: Вытаскивающий. Его имя означает «вытаскивающий».
Б. Ю.: Да. Как тот, кто получит — в огне и жаре, в страхе и в риске принятия, в полном объёме — заповедь, завет, направление пути. Я даже не буду говорить «текст», потому что театр не всегда имеет дело с текстом. Концепт, замысел, изначальную идею, в которой уже кружатся все потенциалы, но которой предстоит ещё развернуться, а потом материализоваться в действиях, вещах, образах, и в конечном итоге — ещё и в зрителях.
И эту идею народ никогда не может принять целиком. Её может принять какая-то единственность, готовая уместить в себя идею со всеми потенциалами, которой предстоит найти путь, позволяющий передать её всем и каждому.
Когда речь заходит о театре, мы говорим не только о визуальном и концептуальном. Мы говорим ещё и о действии, то есть об акте, на пути которого открываются визуальные и акустические образы. Идея и образ слиты в концепте, в импульсе, и должны одномоментно разместиться со всеми своими потенциалами в этом единственном посреднике.
У. Г.: В некой единичности, не в народе.
Б. Ю.: Да. И только благодаря этому дальнейшее может произойти как завершённый театральный процесс.
У. Г.: Ещё один момент, который, мне кажется, ты сможешь прокомментировать. Есть замечательный мидраш о том, почему, собственно, народ испугался. В тексте написано, что они встали под горой. И мудрецы Талмуда, как всегда, переносный смысл прочитывают буквально. Они говорят: «Бог взял эту гору, поднял над ними как лохань, и сказал: „Ну что, принимаете Тору или нет? Если нет — я отпускаю“». То есть, в каком-то смысле, это акт насилия. В Талмуде один из мудрецов говорит: «Если так, то мы можем и не соблюдать Тору, потому что нас заставили её принять насильно».
Б. Ю.: Вследствие насилия, да.
У. Г.: На что другой мудрец замечает, что тогда, может, и было насилие, но затем, во времена царицы Эстер и царя Ахашвероша, мы приняли Тору уже не под страхом смерти, а осознанно, и поэтому должны её соблюдать.
Это у меня ассоциируется с тем, что ты говорил по поводу принятия, отказа и повторного принятия. Первое принятие — оно всегда, в некотором смысле, насильственное. Если концепт получен не народом в целом, то всегда оказывается, что он кем-то навязывается.
Б. Ю.: Здесь мы наблюдаем своего рода парадоксальную одновременность. Мы, с одной стороны, находимся в главе о даровании Торы. С другой стороны, уже появился мидраш. И мы продолжаем соотносить себя — без посредника в виде мидраша, а значит, мудрецов — с самим текстом Торы. А посредник в лице мудреца пугает нас тем, как Творец испугал свой народ при помощи горы. Это уже довольно сложная система образных и смысловых предложений. И мы видим процессуальность — народ приходит, отходит назад, просит Моисея; целая огромная драма. А тут ещё и другой тип процессуальности возникает, связанный с горой…
У. Г.: …или тот же самый, это может быть детализация.
Б. Ю.: Ты утверждаешь, что это одно и то же, детализация, но на уровне образа мы уже иначе с этим обращаемся. В чём это одно и то же, а в чём разное, и как всё это соотносится? Попробую прокомментировать.
Возникает мидраш, то есть мудрец, особым образом сжимающий сюжет в образе (в первую очередь) и в сложной компоновке самого рассказа — устного, затем ставшего письменным. Это можно назвать эволюцией главы в сторону мидраша. Поэтому здесь появляются новые правила понимания и выговаривания. Возникает, как я это называю, «новое процессуальное искусство». То есть изначальный концепт, принятый «на территории главы», с той единственностью, которая может принять голос и передать всем. Это первая стадия эволюции, и первая система правил, выраженная в самом рассказе.
У. Г.: В самом тексте, да.
Б. Ю.: А дальше возникает вторая стадия эволюции — мидраш, Талмуд, мудрец и так далее.
И в театре, когда я стал заниматься проектом «Сад», я обнаружил насущную необходимость иметь дело с проектом, который претерпевает эволюцию. Потому что, если будешь оставаться на первой стадии, то общность, рождённая концептом, посылом, импульсом, разделённая всеми — она загнётся. Она быстро прекратит своё существование, не раскрыв свои потенциалы. И тогда ты начинаешь куда-то двигаться и обнаруживаешь следующую стадию понимания всё того же «Сада» (я называл это тогда «регенерацией»). Потом следующая, и ещё одна. Я прожил с потрясающей компанией десять лет, и восемь раз пережил регенерацию, то есть восемь полных смен правил в ходе эволюционного движения по одному и тому же поводу, имя которого — «Сад».
Б. Ю.: Вот тогда я понял, что существует возможность для нового процессуального искусства, где два момента очень существенны в связи с нашим разговором. Первый — эволюция, а второй — индукция. Это не телеологическая перспектива, когда ты из какого-то уже случившегося события выращиваешь всё действие, а некое движение в неизвестном направлении, заданное только изначальным импульсом. Но оно подразумевает обязательную эволюцию и движение в стадиях, индуктивное движение. Не дедукция, а индукция управляет самим этим движением. Это очень важно для нового процессуального искусства. Я слышу взаимодействие мидраша с главой, мудреца с Моисеем. Это связь через ту самую эволюцию, индукцию. Это один момент.
А второй — связан с горой. Что такое гора? Гора — это не о том, как кто-то их пугал чем-то. Просто если говорить о Творце, то там, где мы — образ и подобие Его, находится точка свободного выбора, свободной воли. Он должен оставить человеку этот выбор, Он не может его забрать. Если трактовать гору как жест насилия, тогда Он не оставляет им возможности выбора. Но мне кажется, что это неправильная трактовка. Я с ней не согласен. Может, она и правильная, но иногда и с чем-то правильным тоже не соглашаешься. Я бы позволил себе другой комментарий к этому акту. Наоборот, Творец взял и сразу показал всё — начало и концы, то, чего человек не знает и не может знать. Он в виде этой горы сразу всё открыл. Но когда мы глядим на этот образ, нам может показаться, что гора — это пирамида. Или мы можем взять реальную гору, Синайскую.
У. Г.: Там сказано: «поднял её как лохань».
Б. Ю.: А, то есть это никакая… А что значит лохань?
У. Г.: Ну… такая ванна.
Б. Ю.: Лохань — это корыто?
У. Г.: Корыто, да.
Б. Ю.: Так это же очень парадоксально. Это намёк на то, что гора наполнена огромным содержанием. Понимаешь? Той самой водой. Он взял эту гору не просто как некий насильственный объект, а поднял и сказал: «Вот! Посмотрите, сколько здесь всего!» И народ понял. Здесь всё, что предстоит, всё, что было, и всё, что есть. И даже театр Бориса Юхананова где-то в завитках букв тоже там записан.
– Нет, Пиноккио, это я, Джеппетто, твой отец.
– Мой отец — король леса.
– Смотри, Пиноккио: светлые и чёрные камни. Одни сверкают, другие собирают свет.
Б. Ю.: Народ, услышав о грандиозности предстоящего, естественно, отступил на последовательные стадии эволюционного развития. И попросил, чтобы кто-то помог ему так двигаться. Насилия не было вообще. Был открытый невероятный акт, который в этом образе представил народу всё сразу. И он понял: на эту гору надо взбираться.
У. Г.: Постепенно.
Б. Ю.: Постепенно, да. Творец осуществил единоразовый акт, который подразумевал для народа постепенное движение. Очень, я бы сказал, постепенное.
Все мои спектакли, так или иначе, связаны с эволюционным движением, с ново-процессуальным эволюционным проектированием, но я не буду сейчас углубляться в подробности и о них рассказывать.
У. Г.: Боря, правильно ли я слышу, что вся эта история, включая мидраш, вполне отзывается в тебе как в режиссёре некими камертонами.
Б. Ю.: Ключевое слово — «вполне»; то есть «в полноте» отзывается. Не просто так, а в полноте. И на этом я, со своей стороны, завершил бы свою речь.
У. Г.: Да, будем заканчивать наш сегодняшний разговор. Я надеюсь, что он продолжится, в принципе, но сейчас мы поставим своеобразное многоточие и попрощаемся с нашими зрителями до следующей программы. Спасибо, Боря, спасибо.
Б. Ю.: Спасибо, Ури, спасибо, дорогие зрители.