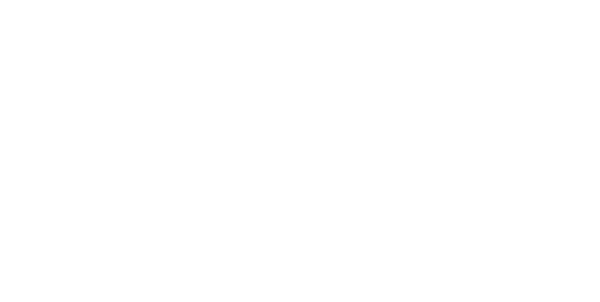Разговор с режиссером Андреем Могучим, художественным руководителем БДТ им. Г.А. Товстоногова, ведет режиссер Борис Юхананов, художественный руководитель Электротеатра Станиславский.
1 марта 2016 года
Борис Юхананов. Во-первых, я сам переживаю судьбу и творчество Андрея очень близко: и твоя судьба, лидерская позиция в искусстве, беспощадное отношение к себе – это редкое качество режиссеров нашего поколения, и твоя действенная продуктивная режиссура меня чрезвычайно интересовали и интересуют.
Твое рискованное вхождение в структуру, эта потрясающая история с Новой сценой Александринского театра, которую вы сделали вместе с Валерием Фокиным, а дальше твой фестиваль (ТПАМ – Театральное пространство Андрея Могучего), который ты делаешь открытым, откровенно, неустрашимо и невзирая ни на что отдавая этому свое имя и работая над созданием культурного контекста.
То, что ты взял БДТ – это огромный риск и огромный труд, и то, что ты в конечном итоге пошел через этот самый шаткий, самый хрупкий мостик первых лет формирования внутри огромного именного корабля – это все вместе говорит нам об уникальной и очень значимой для нашего театра личности.
Первый вопрос: как ты сейчас строишь свой театр? Какие существуют реальные проблемы в БДТ?
Андрей Могучий: Ты сейчас перечислял все это, и я прошелся по своей жизни и с удивлением обнаружил, что разница в механизме не изменилась.
Если говорить о том, как я пришел в профессию, как возник Формальный театр, как оказался в Европе со всеми перформансами, которые мы туда возили, или как оказался в БДТ – механизм примерно один и тот же. Все это шло всегда помимо всяческой логики и конфликт всегда лежал не внутри события, а между событием и жизнью. Поэтому когда я соглашался в довольно короткий срок войти в БДТ, для меня это тоже был некий художественный акт и продолжает им быть. Важно подчеркнуть, что для меня это не критерий карьеры, а критерий нового художественного задания, которое мне как художнику интересно. Даже к фигуре директора я подходил как к кастингу – подбирал одного к другому, то есть практически формировал команду как новый спектакль. Поэтому, если говорить о репертуарной политике, то она во многом рисовалась не из значимости или качества отдельного спектакля, а из контекстуального движения. Мне важно, чтобы первым спектаклем был спектакль “Что делать”. А вот дальше мы уже разбирались с этим названием и с этой книжкой. Но в рамках поставленной самим собой перед собой задачи – возвращения БДТ – я понимал, что первый шаг должен быть резким. Важно было сделать какую-то вещь интуитивно, чтобы она противоречила логике. Мы с Шишкиным (Александр Шишкин – художник, сценограф, постоянный соавтор Могучего) поставили в зал Большого Драматического алюминиевый амфитеатр, что кажется совершенно невозможно. Скучный роман, странная инсценировка – много вещей делались в движении отрицания.
Меня кто-то из журналистов спросил, что вот вы, мол, делаете классику – на что я ответил, что ни одного классического произведения в чистом виде мной там не было поставлено. “Что делать” – это пьеса питерских авторов Артёмова и Юшкова, Вырыпаев – тоже современный драматург, “Алиса” тоже специально написана… То есть это все написано специально для этого времени и для этих пространств. На следующий год мы наоборот переходим к классическим текстам – в пространствах, которые уже насыщенны энергией какого-то взрыва. Как-то так я чувствую эту логику. Сейчас период, когда выбранный материал не должен взрывать ситуацию, но должен ее сбалансировать – “Гроза” Островского, “Мертвые души”. Так я чувствую.
Б.Ю.: Вот ты говоришь о возвращении. Понятно, что в управлении таким большим кораблем, как БДТ, существует очень много необходимой пассивной толерантности, без которой невозможно. Но там, где ты применяешь стратегию, толерантность не работает – там работают другие, подчас беспощадные критерии. В этом смысле меня заинтересовала фраза о возвращении. Что ты имеешь в виду? Отношения с обществом, когда-то такие яркие у этого театра?
А.М.: Конечно, театр в этом смысле особенный, потому что имя Товстоногова необычайно мощно присутствует в нем до сей поры. И несмотря на то, что сам Товстоногов страшно боялся канонизации и буквального повтора того, что делал он, на мой взгляд, это произошло. И логика в том, чтобы, войдя в этот театр, максимально забыть это имя. Такое давление мощное имени не позволяет суставам работать. Собственная энергия подавляется мгновенно. Но этот путь показался мне ложным. И наша команда стала наоборот очень внимательна к имени Товстоногова, стала популяризировать его – хотя никто из новой генерации даже имени этого не знал. Мы когда делали первые режиссерские лаборатории – “Товстоногов. Метод” – приглашали Гинкаса с Яновской и других мастеров, то оказалось, что молодые ребята, режиссеры, даже не слышали этого имени. И нам показалось, что самым авангардным и радикальным ходом будет сделать это имя модным сегодня. Понять, в чем был смысл реформ, если он был, в чем был содержательный смысл этой эпохи и что сделал Товстоногов.
Б.Ю.: А не окажется ли так, что чем точнее мы будем вскрывать суть прошлого мастера, тем быстрее мы с ним расстанемся?
А.М.: Мы посвящаем много времени первым 10 годам, когда им были сделаны лучшие спектакли. Те годы были заряжены теми же самыми проблемами, которые существуют сегодня у меня. Человеческая позиция продолжает быть актуальной. Общаясь с людьми, которые работали с ним в то время, пускай эстетически совершенно другое, чем сейчас, понимаешь, что профессионально его метод и позиция вполне себе актуальны. Это был страшно сомневающийся в себе человек, что мне кажется достоинством для художника. Человек, который искал подлинность в настоящем, а эти вещи на фундаментальном и методологическом уровне остаются очень важными. Например, он говорит, что классику нельзя ставить как классику – спектакль обречен на неуспех, если он не поставлен как пьеса современная. Или – что в искусстве нет никаких ограничений и табу.
Б.Ю.: Личность выигрывает у истории, а метод всегда проигрывает. Таким образом, оказывается, что идеология спрятана не в личности, а в методе. И метод всегда идеологичен. Это довольно серьезная проблема с образованием – что же мы будем передавать, личность? Ее передать невозможно. а передавать метод – значит подчинять человека собственной идеологии. Возможно ли тогда образование сегодня, особенно режиссерское? Каким ты его видишь?
А.М.: Мы с тобой были недавно на мастер-классе твоего учителя Васильева, я с восхищением слушал и сразу пошел применять: а почему не попробовать? В этом смысле каждый из нас такой коллекционер – что-то отсюда, что-то отсюда. Мы все друг у друга заимствуем, внутри перевариваем и создаем свой персональный метод индивидуальной режиссуры. Я думаю, что ни один учитель не может назвать своих учеников – вот это, наверное, закон. Но каждый ученик может назвать своего учителя. У меня сын недавно закончил ВГИК, операторский факультет, и я решил ему как папа подарить свою любимую, очень редкую брошюрку – лекцию Андрея Тарковского о режиссуре. Дарю, но, думаю, дай-ка напоследок пролистаю: открываю, а она вся исчиркана моими какими-то пометками. И я понимаю, что я все эти 30 лет говорил текстами Тарковского. То есть все эти мои идеи оказались вот откуда: прочитал, подчеркнул и запомнил. Есть же такая особенность театральной профессии – паразитирование и присваивание.
Б.Ю.: Очевидно в общении с тобой, что ты человек не тоталитарного свойства. Это не осложняет тебе жизнь в БДТ? Ждут ли от тебя тоталитарности?
А.М.: Я думаю, что любовь всесильна.
Б.Ю.: Не кажется ли тебе, что современный театр совсем охренел? Что люди просто перестали осознавать свое движение? Что они в конечном итоге теряют власть не только над самими собой – под эгидой актуальности, а они оказываются в ситуации невероятной зависимости от собственной позиции современного режиссера. Не хочется ли тебе это все взорвать и делать что-то совсем иное, чем ожидают от тебя собратья по профессии и небольшая кучка любителей современного искусства и театра?
А.М.: Это очень страшно – быть неактуальным. Вопрос дигитальной эпохи: когда каждый – сам себе писатель, фотограф, художник – возникает вопрос критериев. Это процесс естественный, превращающийся в ясную форму. Все, что не назначено искусством, искусством не является. Как мне однажды сказал художник Боровский, увидев одних перформансистов: “Я их пока художниками не назначал”. Так же и в театре: что назначается искусством – искусством начинает быть. С этим, конечно, трудно смириться. Даже нам, постмодернистам.
Да, сегодня мы живем в эпоху охреневшего искусства. Но театр имеет особенность – это же негуманное искусство. Мы приходим, покупаем билет непонятно на что, не знаем, что увидим, сидим в зале, откуда выйти нельзя довольно долго – вот это сохраняет какие-то критерии.
Б.Ю.: Как ты считаешь, возможен ли коммерческий, профессиональный, классный, полностью зависящий от бокс-офиса театр? И возможен ли в России некоммерческий театр? И если ни то, ни другое невозможно, то что вообще происходит, что это вообще такое? С чем мы здесь имеем дело в виде театра?
А.М.: Хочу ответить SMS-кой очень уважаемого мной человека: «Круто, когда театр выше критики, выше фестивалей, выше всей этой тусовки. Когда главное – проданные билеты на спектакли, в которых есть подлинный смысл. Это вышак».
Б.Ю.: Лексика советская. Я думаю, что слова про подлинный смысл крайне опасны: кто-то присваивает себе истину, а это ведет к фашизму. Если ты начинаешь говорить, что это истина, а это не истина, то мы оказываемся в ситуации фашистской, на мой взгляд. И это для театра непереносимо. Бокс-офис не делает театр фашистским, он делает его демократическим, а вот подлинный смысл, его назначение – это ставит театр на путь идеологии.
А.М.: Я думаю, что когда ты ставишь спектакль, ты назначаешь этот смысл сам.
Б.Ю.: Нет, я могу избегать смысла и при помощи этого делать спектакль. Это техника.
А.М.: У меня был приятель, который делал бесцветный флаг — как символ бессмысленности. И в этом смысле пропагандировал бессмысленность. Это был совершенно тоталитарный человек и довольно грубый. И мне кажется, что о подлинности смысла говорить бессмысленно. Ионеско: «А истина как раз посередине!»
Б.Ю.: Так возможно ли здесь делать коммерческий театр?
А.М.: Да, мне кажется, да. И он при этом может оставаться смысловым.
Б.Ю.: И он может при этом учитывать бокс-офис?
А.М.: Да, это, мне кажется, самая важная для меня сегодня задача — потому что хочешь – не хочешь, а 780 мест в БДТ надо каждый день наполнять. Потому что, когда Минкульт говорит, что субсидии будут прямо зависеть от кассы, то есть количества зрителей, с этим можно сильно спорить, что мы и делаем, но, так или иначе, эта задача существует, потому что мы живем в этой системе координат. Притом, что заработать деньги не так сложно — два-три приема и зал полон — это все мы знаем. Но для БДТ этот путь мне кажется неправильным.
Б.Ю.: Там, где существует просвещенная власть бокс-офиса как демократия, там, одновременно с этим, отсутствует репертуарный театр. Он просто там не может существовать, потому что там должна существовать власть кастинга над актером. Ты должен каждый спектакль делать через кастинг — тогда перед тобой море разливанное возможностей, актер перед тобой по струнке, ты можешь выбрать любого, и тогда ты можешь сделать, как ты выражаешься, осмысленный спектакль и одновременно утолить бокс-офис. Если ты имеешь дело с репертуаром и тебе уже поздно торговать бывшей славой и угасающими звездами — то тогда какой у тебя инструментарий для того, чтобы реализовать бокс-офис? Тем более, если ты включен в инфраструктуру, которая обслуживает сейчас довольно примитивные настроения: как пропагандистские, так и витальные, которыми наполнено это время. Как же при этом опираться на этот критерий бокс-офиса, как его выставить?
А.М.: Аудитория театра несравнимо мала по сравнению с аудиторией телевидения. Поэтому та часть населения, которая готова ежедневно наполнять БДТ, вполне соотносима с возможностями художественными. Это, конечно, всегда риск и проблема ленивых администраторов, но любой проект может найти своего покупателя. Если он развит аналитиками, доведен до стадии товара. То есть любой смысловой проект, доведенный до товара, может быть продан. В этой вилке существовать необходимо и нужно.
Б.Ю.: Ты говоришь о том, что потребитель не должен диктовать производителю?
А.М.: Да.
Б.Ю.: Для этого нужно повышать цивилизацию продюсирования и маркетинга театра. Признать, что театр располагается на маркетинговой территории, понять, что неотъемлемой частью продюссирования театра является просвещенный активный маркетинг.
А.М.: Да.
Б.Ю.: Вот ты говоришь, что твое творческое ощущение себя не изменилось, ты сам слышишь себя в цельности, развивающимся, но все тем же художественным телом, которым ты был в конце 80-х годов.
А.М.: Движение разное, а мотивация одна, да.
Б.Ю.: Когда-то нам всем абсолютно великими казались определенные фигуры: Гротовский, Брук, Арто, Крэг… Это звездное небо изменилось у тебя, появились другие ориентиры в театре, драматургии, кинематографе? Изменилась ли картина мира, выраженная в персонах?
А.М.: Не изменилась, но дополнилась. Ну это вот к тому же — только ученик может назвать учителя, только я знаю, откуда что своровал. Конечно, Васильев, Някрощюс, Люпа, Персиваль, Митчелл.
Вопрос из зала: Какие образовательные программы существует в БДТ и для чего они нужны?
А.М.: Мы сделали несколько шагов: была педагогическая лаборатория для школ, старших классов. В БДТ приходили учителя, а руководитель лаборатории Борис Павлович преподавал им методику агентов театра в городе. Вопросы: театр как инструментарий преподавания и театр как объект внимания. Как смотреть спектакль, например. Такой обучающий процесс. Объяснялись критерии: как оценивать спектакль, плохо это или хорошо и почему. После этого смотрели спектакль и обсуждали, кто что понял. Есть социальные проекты с центром «Антон тут рядом». Борис с артистами сделал спектакль «Язык птиц». Был проект «Новые люди» по мотивам Чернышевского «Что делать»: школьники писали сочинения под руководством драматурга про то, что таке новый человек сегодня. После «Что делать» мы устраивали обсуждения: те темы, что не успели обсудить в спектакле, обсуждались уже в открытом диалоге. Вообще, желание разговаривать с друг другом колоссальное. Поэтому и спектакли как диалог сегодня более интересны и востребованы бокс-офисом. Вот мы делаем какой-то спектакль и вокруг него накручивается специальная программа, которая будет связана с ним. Во главе угла все равно идет репертуар, потому что главный генератор смыслов и идеологии – большая сцена.
Б.Ю.: А сколько у тебя в год запланировано проектов на основной сцене? Разве может большой театр не планировать за год вперед?
А.М.: Может. Я же сказал в начале, что для меня это абсолютно игра. Художественная игра. И я не всегда знаю, какой следующий ход. Даже в этом сезоне у нас несколько раз менялись планируемые названия. Я создаю сложную систему подпорок, которая позволяет планированию быть очень гибким и быстрым. Художник превалирует над менеджером. Репертуарная политика, стратегия театра должна прорасти, она должна быть естественной, художественной – и после этого зафиксированной в планах. Дальше я хочу сделать попытку реформирования формы существования репертуарного театра. Оставив его репертуарным.
Вопрос из зала: Как вы относитесь к визуальному театру, что он значит для вас этот жанр?
Б.Ю.: Это как обсуждать прошлогодний снег. Как обсуждать драматический театр, который уже ушел.
А.М.: Я работаю в драматическом театре, между прочим, и очень большом.
Б.Ю.: Я тоже. Мы с тобой люди, работающие в прошлом, и в этом радикальны. Люди уже поняли, что только за счет радостей поверхностей ничего невозможно получить. Ушел театр глаз, возник театр ушей. Люди стали слушать, делать оперы, некоторые сумасшедшие даже делают оперные сериалы. Все понадеялись на ухо. То, о чем говорит Андрей, - надо создать человека. То есть глаз, рот, ухо и тогда бокс-офис взорвется – все захотят на это смотреть.
А.М.: В БДТ работает Эдуард Степанович Кочергин – главный художник театра, который говорит, что 85 % информации попадает в человека через глаза. Я визуальным театром переслал заниматься, и в этом смысле согласен, что какие-то свои границы он определил, их трудно раздвигать, набор визуальных эффектов ограничен. Это осмысленный аттракцион в большей степени. В свое время он для меня был очень важен. Почему я занялся визуальным театром в 90-е годы? Это был единственный способ накормить артистов. Мы сделали спектакль, поехали по фестивальной Европе, и кормились 7-8 лет. А вопрос, что сегодня для меня визуальный театр - не стоит. Это закрытая страница.
Елена Черемных: Как музыкальный критик, хочу пофантазировать. А если бы снимался сериал о драматических режиссерах, которые приходят в оперу — не о режиссерах и их победах, а о тех комплексах, что они испытывают перед музыкой… Можете поделиться вашими комплексами, испытываемыми в оперных работах?
А.М.: Я никаких комплексов не испытывал. Вокруг меня всегда было много замечательных людей, которые в музыке разбираются, и для меня никогда не было зазорно пользоваться их советами. А иногда, я вам скажу, вгонял в комплекс некоторых оперных певцов или дирижеров. Например, в «Царской невесте», ко мне подошел певец и попросил текст – я, говорит, 20 лет пою, но никогда не понимал, о чем речь. Или они вообще не знают, что такое действенный анализ и что у персонажей есть биография.
Вопрос из зала: Какой ваш артист?
А.М.: Мне так часто задают этот вопрос, а я никогда не знаю ответа. Мне очень важен человек, чтобы я с ним мог разговаривать. Это идет раньше профессии. Вторым критерием – навыки. Есть артисты, с которыми я нахожусь в одном квантовом поле, а есть те, с кем нет, и я ничего не могу сделать. Ты чувствуешь друг друга или нет, этого объяснить нельзя. Если нет – ты тратишь очень много и напрасно времени на работу с артистом, которого ты, например, неправильно распределил. Это мучение. Сделать кастинг правильно это на 90 % залог, что что-то получится. Я не люблю менять артистов, этическая сторона для меня важна – приходится выкручиваться, закрывать, прикрывать, убирать, но не менять. Это не значит, что мы должны дружить, это даже вредно. Но мы должны стремиться друг друга понимать. Вот с такими артистами я очень люблю работать.
Вопрос из зала: Когда вы задумываете проект, вы его задумываете для себя или для театра или для артистов, с которыми вы работаете? Какой ваш импульс? И, чтобы обострить: вы спектакль “Пьяные” поставили зачем?
А.М.: Конечно, работа в БДТ очень контекстуальна. И факторов, которые воздействуют, огромное количество. Исходя из этого, подбираешь материал, который, как тебе кажется, взаимодействует с этим контекстом. Очень большой процент в этом выборе – нехудожественный. Я делал спектакль «ДК Ламанчский» с Сашей Лыковым, потому что меня позвали на большую сцену “Балтийского дома”, а я очень давно хотел сделать спектакль с Сашей. Я никогда не мечтал сделать “Дон Кихота”. Я в жизни вот так изнутри, по доброй воле, сделал по сути два спектакля, а то и один. Если совсем жестко подходить к самому себе — то это “Школа для дураков” и больше ничего. Это единственный текст, который не был выбран из-за обстоятельств. По поводу “Пьяных” много вопросов. Мне показалось, что эта пьеса должна быть сыграна на большой сцене, в зале, где много золота и Амуров, в замечательной минималистичной декорации Саши Шишкина, которая, когда стоит в зале БДТ, начинает работать. То, что пьеса для БДТ и для Питера достаточно радикальна – тоже важно. Это поступок.
Вопрос из зала: Мой вопрос связан с пластикой. Вы поставили очень сложные пластические задачи артистам с очень ограниченными возможностями...
А.М.: Это было сознательно сделано. Мы брали плохих артистов с плохой пластикой, плохих хореографов. (Смех в зале).
Б.Ю.: Ответвенность критики и критиков сейчас значима. И мы наблюдаем, как критики начинают друг другу рвать горло, ссориться, разделяться. Это происходит потому, что ответственность их участия в театре повышается. Это может быть участие, губящее театр, и сердечное, подлинное, глубокое, которое позволит театру развиваться дальше. Требуется новая оптика, новая способность к письму и действию, потому что критик – это действенный театр, напрямую говорящий с людьми, берущий на себя коммуникативную и экспертную функции. Что ты думаешь о критиках сегодня?
А.М.: Мы сейчас делаем проект в БДТ – называется “Анонимный критик”. Он будет переодически появляться в Youtube без лица и анализировать критику. Критик критика. Мне кажется, это один из путей нашего взаимодействия с тем цехом. И да, сейчас период, когда ответственность возрастает у всех. Есть ответственность критика за просветительско-образовательную программу в театре.
Вопрос из зала: Как вы работали с текстом «Пьяных» и актерами? Пьеса ведь очень сложная, философская – как это передать?
А.М.: Весело работали. Пьеса смешная и простая. Мне актриса сказала – мне нравится, когда мы смеемся на репетициях. А мы, в общем, только так и делали. Для каждого спектакля очень важен какой-то свой собственный момент, очень персонифицированный. Имя этого спектакля – радость. Или счастье. Потому что его репетировали в радости и счастье. Текст не был сложным для нас.
Вопрос из зала: Я из Франции – мы обычно идем в театр за развлечением, интеллектуальным наслаждением. А в России сразу возникает полемика зала и сцены, серьезные обсуждения. Как вы можете это объяснить?
Б.Ю.: Мы живем без кожи, да. В нас бактерии коммуникации, социального огня попадают сразу туда, где располагаются нервы, кровь. Такова природа российской культуры. Особенно в эпоху бесконечной революции. Когда революции были во Франции — там тоже орали прямо из зала. Это природа революции, когда так относятся к театру. Театр в этом смысле лакмус.
Вопрос из зала: Вы говорили, что принимаете во внимание бокс-офис, когда выбираете материал. А когда уже делаете спектакль, вы думаете о зрителе?
А.М.: Бокс-офис – один из факторов. Мы работаем с театром как со средством представления, говорил великий Гротовский - поэтому мы, естественно, программируем восприятие. Я примерно понимаю, какой в зале будет эффект. Маркетинговая регулировка цены билета очень сильно влияет на наполняемость зала и адекватность публики, которая в нем сидит.
Расшифровка предоставлена порталом Colta.ru; редактура – Кристина Матвиенко