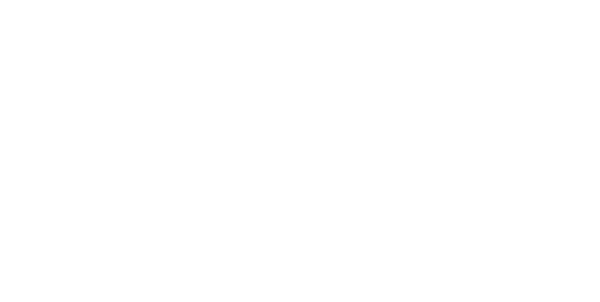Алексей Беляев. «Стерилизация вещества»
Галерея «Obscuri Viri», Москва
Июнь 1994
Царственные выходцы с того света, наверное, удивились бы, встретившись с настоящим временем (Н.В.) и обнаружив (здесь или там?) ситуацию, где художник оказывается на границе между собственным увлечением и увлечением того самого Н.В., о котором он собирается устраивать повествование.
Все, что я сейчас говорю, имеет прямое отношение к выставке Алексея Беляева в галерее «Обскури Вири». В силу особого дара, которым наделен художник, дара, на который можно осторожно попробовать указать, пользуясь такими понятиями, как «трагический риск» или «синдром Пастера», препарированная дискотека, хитроумно вживленная в сиюминутную структуру арт-мозга, называемую ныне инсталляций, оказывается выведенной из контекста происходящего в сферу тех остросюжетных процессов, когда реклама оборачивается саморекламированием истины. Мне не обойтись без заново засветившегося в последнем артистическом сезоне словечка «карма». Похоже, Алексей Беляев растворяет этого эзотерического зайчика в собственной практике, запуская вместо привычной для всех нас инсталляции «новую процессуальность». А участие собственного стиля понимает, скорее, как безучастное наблюдение за тем, как микробы Н.В. входят в плоть нашего недеконструированного сознанием генокода. Особое искусство имитации свойственно, скорее, постмодернистской виртуозности, чем тому уже осознанному методу, в котором художник пользуется приметой как таковой, относится ли она к масс-медиа или участвует в пространствах, актуальных только для автора. Все это умещается в том, что принято сегодня называть художественным жестом, но не умещается в восприятии. Потому что в данном случае художественный жест огибает восприятие, устраивая ловушку для него. Воспринимающий оказывается частью той процессуальности, которую раскрывает перед нами — а на самом деле над нами, от/в/ступающими в галерею, — автор. Активность, с которой препарируется Н.В., выраженное обликом дискотеки, участвует не столько в высказывании, посвященном актуализации Н.В., сколько оперирует самим знаком, оперирует таким образом, чтобы выйти за пределы. Мы имеем дело с провокативной стратегией, но провокация здеЬь упрятана в облик высказывания. Перед нами эксперимент, обращенный на того, кто проводит его. Художник оказывается на границе между тем, кого он представляет, и самим собой, заключенным в образе персонажа Н.В. внутри собственного сознания. Осуществление этого представления не атакуется волей, а участвует в том особом дансинге, который откликается на ритмы времени и ждет их перемен. Психоделическая интонация, присущая тому приключению, которое переживает входящий в галерею, подчинена архитектонике, требующей особой острой сознательности, особой остроты обращения с фактурой и с пространством, в данном случае лишенным даже намека на возможность осуществления в нем истинного изыска форм. Поэтому, входя в опустошенный этаж детского сада, художник не обращается к самому пространству, а это самое опустошение употребляет в сторону провокации, имитирующей или мутирующей под высказывание. Таким образом, ему удается осуществить ловушку не столько для входящего, не столько для смотрящего и не столько для того, кто попытается продегустировать этот процесс, столько для самого процесса, устанавливающего необходимость ловушек.
Когда мы в первом зале обнаруживаем рекламу известных всей Европе немецких сигарет «НВ», то понимаем, что гэг, примененный художником, — или точнее обозначить это как трюк исторической насмешки над непобежденной Германией, — осуществляется на уровне того активного психоделического утопизма, с которым сегодня мы еще боимся соперничать в актуальности. Но завтра, и это подразумевается вторым залом, порошок избегнет метафоры наркотика и встретится с новым поколением, выраженным на фотографиях изящным персонажем неувядающего петербургского декаданса. А трансвестия, как известно, всегда нацелена на гармонию...
Итак, порошок называется «Ариэль». Здесь напряженная оппозиция между именем духа и названием стирального порошка. Напряжение располагается между именем и актом внедрения, свойственным современному потребителю. Внедрение в потребителя осуществляется при помощи духа. (Что давно подмечено культурой).
Дальше этому можно сопротивляться, на этом можно паразитировать, а можно обратиться с этим, заново удивившись универсуму присущего нам бытования, в котором дух встречается... с порошком. Когда изысканный и вечный служитель доброй воли, воздушный, легкий и юный Ариэль обслуживает сам жест внедрения, тогда художественный жест присоединяется к радости, заключенной во внедрении, празднует ее вместе с обликом трансвестии и, таким образом, очищается порошком, очищается иконным смыслом самого продукта. В конечном итоге территория одного пакетика порошка с налепленной на него фотографией оказывается праздником очищения!
Препарированная дискотека не столько выдана нам наружу, сколько осуществляет Себя при помощи того тайного диапазона, где умещаются персонажи совершенно другой реальности, являющиеся актуальными не столько для автора, сколько для Н.В. Персонажи, то ли уходящие из времени, обслужив известный анекдот «а теперь — дискотека», то ли входящие в него из этого анекдота, персонажи, особенным образом мифологизированные, и в этом смысле не существующие. Не могущие существовать в принципе, но данные нам в облике «новых юных» рассерженных, пришедших сюда встретиться с номой.
И когда я, будучи затворником по природе своего занятия (а я, как известно, занимаюсь театром), обнаруживаю себя среди этих озаренных КЛФом юношей и — вдруг — среди них различаю давно знакомые мне лица московской тусовки, я понимаю, что надо держать ухо востро, ибо художник ловит меня на наживку вернисажа, и я поневоле оказываюсь в том пространстве, в котором уж, наверное, давно живу, сам не замечая этого. Итак, когда я обращаюсь к этому своему «наверное, поневоле», то по-новому встречаюсь с третьим актом мистерии или трагедии, разыгранной передо мною и, как я уже сказал, вокруг и, видимо, после меня в этом странном месте, имя которому «Обскури Вири» и которое так хочется высветить особым сиянием, ожидающим нас то ли за границей кафеля морга, то ли за концом маргинально-морга-натической династии. И все это — граница, куда я не могу ступить, ибо особенно опасным становится голубое ртутное сияние люминесцентных ламп, когда ты уже наполнился переживанием собственной, не свойственной тебе идентификации. И когда ты, исполненный этой идентификации, уже обнаружил, что реклама может обслуживать не только Н.В., но и утопию, когда ты обнаружил, что утопией оказывается самое настоящее время, когда ты услышал, как дух, встретившись с актом бесконечно манипулятивным, вычислил этот акт, — ты вдруг оказываешься на границе, где люминесцентный свет, выхваченный из необходимостей, оказывается не только символом или знаком, но и самим собой, то есть ртутной лампой, источающей голубое или красное сияние. Эта ртутная лампа, источающая сияние сама по себе, данная как чистая субстанция, пребывающая сама в себе, излагающая самою себя, не берущая на себя ничего больше, чем она есть, и в этом смысле остающаяся абсолютно чистым предметом, вылощенным из среды. Данная в той мере, как может быть дана сама данность. Но при этом встретившаяся с извечным противником апологетов коммуникации — телевизором, в бесконечно сером мерцании пытающемся указать на что-то, не представляющее нас на сегодня и сейчас, на здесь и на завтра, которое находится в нашем вчерашнем дне. Этот самый акт, жест, ввинченный в очищенное от символа, знака (и даже от самой провокации) сияние, оказывается финалом того действа, что я именую мистерией, новой мистериальностью художественного жеста.
Если попробовать решиться на оценку, то, пожалуй, на сегодня мы не найдем такого рода острой работы с еще только начинающейся в нашем социокультурном пространстве практикой осознания процессуальности, которая приходит на смену инсталляционным практикам или перформансу. Имени у этого еще, на самом деле, нет, и все, что я говорю, скорее, поиск имени.
Подсказку, может быть, дает сам художник, называя мистерию «стерилизацией», а новость, с которой он предлагает нам иметь дело, — «веществом».