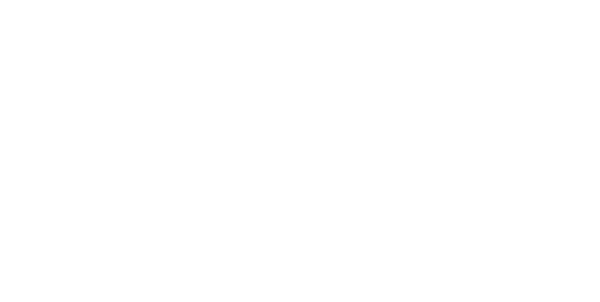Александр Велединский — кинорежиссер и сценарист. По первому образованию — специалист по электрооборудованию судов. Режиссер нескольких короткометражных фильмов и сериала «Закон». Соавтор сценария сериала «Бригада». В 2004 году снял фильм «Русское» — экранизацию романа Эдуарда Лимонова «Подросток Савенко».
Борис Юхананов — театральный режиссер, теоретик, один из основателей параллельного кино, не снявший ни одного кинофильма. В 1988-м создал Мастерскую индивидуальной режиссуры (МИР). Работал с больными синдромом Дауна в проекте «Дауны осваивают мир», называя это работой над собой. Сейчас руководит Школой ангелической режиссуры, участвует в ЛабораТОРИИ — мастерской, осваивающей силами театра Тору.
Александр Велединский: — Как раз вчера в интернете порылся, нашел там твою статью, где мне понравился вывод: «Я не готов к диалогу с вами, но я готов выслушать ваш монолог».
Борис Юхананов: — Ты знаешь, самый крупный гомосексуальный сайт взял его эпиграфом, я случайно это обнаружил. Гей-сообщество признало мою культурологическую работу.
А.В.: — Поздравляю… На самом деле, Борис, я выбрал тебя в собеседники не только потому, что мы с тобой недавно в Питере познакомились на фестивале «Дебошир-фильм», а потому еще, что я тебя некоторым образом в свои учителя записал. Еще в 80-е.
Б.Ю.: — Это очень приятно, Саш, спасибо.
А.В.: — В восьмидесятых я был инженером-судостроителем в городе Горьком и бредил кино. Читал о кино все, что удавалось достать тогда. В том числе самиздат — журнал «Синефантом» в первую очередь, который ты с братьями Алейниковыми, Юфитом и Кондратьевым нелегально выпускали… Мне ваша деятельность очень помогала, выживать помогала, верить… Потом, в конце 80-х — начале 90-х, «Синефантом» стали печатать в официальный изданиях, по-моему, в «Искусстве кино». Очень сильно все это заводило меня.
Б.Ю.: — А дальше как у тебя сложилось?
А.В.: — В 1993-м я со второго раза поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров…
Б.Ю.: — У кого ты заканчивал?
А.В.: — Я учился у Александра Анатольевича Прошкина и Валерия Михайловича Приемыхова. Приемыхов — он только набирал нас, а потом занимался нами Прошкин в основном.
Б.Ю.: — Ну а ты, когда поступал, ты уже внутренне был сформированный человек? То есть ты понимал, какое кино ты будешь делать?
А.В.: — Мне было 34 года…
Б.Ю.: — То есть как личность ты был сформирован. А профессионально ты ощущал себя как? Способным делать кино? Человеком, которому нужна бумажка? Или человеком, которому надо постичь тайны ремесла? Для чего ты пошел на Высшие режиссерские курсы?
А.В.: — Для меня скорее режиссерские курсы были, знаешь, такой дверью, чтоб прорваться в эту область…
Б.Ю.: — Дверь в комьюнити.
А.В.: — Да. Тогда мне казалось, что я знаю о кино все, хотя я ни разу ничего не снимал, до 34 лет я никогда не стоял у камеры. У меня не было никакого опыта, но я дико насмотренный был, скорее даже начитан обо всем, чего невозможно было увидеть тогда в Нижнем Новгороде, в Горьком. Это как в том анекдоте: «Сам я Баха не слышал, но мне Изя напел…» И вот я на Высших курсах. А что такое Высшие курсы? Тебя берут и говорят: вот тебе пленка, тогда еще пленку давали, девяносто третий год — и вперед. Что хочешь, то и делай.
Б.Ю.: — А вот так, да?
А.В.: — Самое любопытное, с первой «минутки» — мы на «Мосфильме» снимали на черно-белую пленку свои первые минутные работы — я не хвалюсь, но это правда: моя и Леши Сидорова работы были признаны лучшими. Леша Сидоров — это режиссер «Бригады».
Б.Ю.: — А вы вместе учились?
А.В.: — Мы учились вместе, Игорь Порублев, Леша Сидоров, все три «бригадира»… Лешка учился у Рубинчика, Игорь тоже у Прошкина, жили в общежитии в одной комнате.
Б.Ю.: — А еще и общежитие есть у Высших режиссерских?
А.В.: — Шестнадцатый этаж общежития ВГИКа.
Б.Ю.: — И дальше?
А.В.: — Дальше был первый учебный фильм, 20-минутный, «Анфан Террибль» я его назвал. О нем даже написали в «Искусстве кино» в девяносто пятом году. Это был такой фильм без слов — вот это, наверное, тебе было бы интересно. Я же понимаю, что тебя в принципе волнует. Но вот как ты относишься вообще к классицизму в кино? Ты ведь мне сразу сказал: ты классицист — и ты правильно угадал.
Б.Ю.: — Да, это сразу видно.
А.В.: — Ну это хорошо или плохо?
Б.Ю.: — Классицизм в кино — это не классицизм в прочем искусстве. Это внимание к классическому периоду кинематографа. Я думаю, что ты должен любить классический период кинематографа.
А.В.: — При этом я люблю и «новую волну», и того же Фасбиндера.
Б.Ю.: — Это все классический период кино.
А.В.: — Ну хорошо, тогда перейдем к «матричному» кино и «медленному видео». Это же твои термины. Вот что это такое?
Б.Ю.: — Понимаешь, при помощи художника общество празднует индивидуализацию, разнообразие. Наличие художников в обществе обеспечивает обществу сохранность от утилитаризации, от окончательного падения в бесконечное форматирование, которое сегодня заполняет всю нашу жизнь. Вот это очень важный момент. А дальше я уже различаю свою жизнь и свою художественную работу как не совсем мной задуманный текст. Особенно «Всемирный Театр — Театр Видео», который в свое время позволил мне просто конкретные опыты поставить. Вот я же снимаю жизнь, как она тянется во времени. И вот это видео, оно дает возможность фиксировать речь. Речь не только человека, а речь мира. И поэтому я решил наговаривать на видео вместе с актерами моего театра видеороман. И я стал это делать, и тогда возникло понятие матрицы. Матрица — это весь наговоренный роман, без монтажа, недискретный, как бы единый, непрерывной линией льющейся речи созданный огромный объем материала, ненасильственный совершенно. И я написал двадцать таких матриц с компанией очень талантливых людей, совершенно замечательных, очень разных, многие из них умерли, многие уехали. Мы задумываем ведь что-то, что не принадлежит тому куску жизни, в который мы внедряемся, чтоб снимать. Я вдруг замечаю, что эта самая жизнь является удивительным текстом. Я же это фиксирую на видео, это реальный опыт, я вижу, как там записан целый текст. Никем не созданный, но удивительно красивый, с подголосками, с рефренами, со смыслами, с указаниями на дальнейшую судьбу человека. Потом же люди с тех пор, как я начал снимать, прожили почти 15 лет. Я сейчас пересматриваю записи и вижу, что было записано. Вижу, что человек — как Никита Михайловский, например — свой монолог говорил о будущей жизни. Вернее, о своей будущей смерти. Это сейчас до дрожи откликается. И ты вдруг понимаешь, что жизненный текст и наше творчество есть часть задуманного жизненного текста. И каждый человек такой. А художник просто делает это зримым.
А.В.: — Борис, тогда в этом контексте сразу перебью, извини за вопрос, ты верующий человек?
Б.Ю.: — Да.
А.В.: — Потому что ты сейчас об этом, по-моему, говоришь.
Б.Ю.: — Естественно, конечно. Абсолютно точно, Саш, спасибо за тонкость твоего осязания.
А.В.: — Я хотел тебе этот вопрос задать вообще, но ты сам меня на него вывел.
Б.Ю.: — Да-да, я верующий человек, я верующий с детства человек. Само собой. Я как-то само собой стал верить в Господа Бога в детстве, в Одного, Единственного и Единого. Так как бы и пребываю.
А.В.: — Это меня радует очень. Я поздно пришел к этому. Я крестился в 31 год, после того как у меня умер отец. Постепенно пытался продвигаться. Но я считаю себя плохим христианином.
Б.Ю.: — А у нас с тобой разговор христианина с иудеем. А скажи, пожалуйста, вот сейчас какой ты по счету снимаешь свой фильм?
А.В.: — Если 2 короткометражки считать…
Б.Ю.: — Да, конечно.
А.В.: — Тогда пятый, включая два коротких метра и сериал «Закон». Вот тебе я принес в подарок диск со своим полнометражным дебютом — «Русское». Это по Лимонову.
Б.Ю.: — А ты в Питере, где мы познакомились, не почувствовал, ведь Питер — это особого рода такой кристалл, где ты можешь заглянуть в ближайшее будущее, он всегда по отношению к России был таким кристаллом, ты обратил внимание, что в молодежной среде питерской накопился новый сгусток, новый узел, который можно назвать леворадикальным анархизмом? Ты просто о Лимонове, и я сразу отозвался.
А.В.: — Я понимаю, да…
Б.Ю.: — Ты почувствовал там дух этого леворадикального анархизма?
А.В.: — Я не посмотрел этих фильмов. (На «Дебошир-фестивале» Александра Баширова в ноябре Юхананов был председателем жюри, а Велединский — гостем. — Прим. ред.)
Б.Ю.: — А я про среду, не про фильмы. В фильмах этого еще нет.
А.В.: — На банкете почувствовал.
Б.Ю.: — Накопилось что-то в сознании людей. Как мне кажется, страну в виде ее молодежи поджидает особого рода злоба. Злоба, которая состоит вся из подростковой нежности, как мне кажется. Это результат какого-то особого рода сгущенного сиротства, понимаешь. Вот это сиротство, нежность, это сердце подростка — оно, лишаясь связей и поддержек, становится жестким и очень злобным. И это то, что, кажется, произойдет буквально через секунду с молодой культурой. Вот это огромная, мне кажется, тема.
А.В.: — Совершенно с тобой согласен. Я об этом фильм снял. Делая картину «Русское», я общался с ребятами из НБП. Это как раз то, о чем ты говоришь. Нежные и злые.
Б.Ю.: — Это сиротство есть результат неожиданный и в то же время очевидный. И оно начинает проникать и в более зрелые как общественные, так и возрастные группы. Оно как бы везде оказывается. Нет у тебя такого ощущения?
А.В.: — Есть.
Б.Ю.: — Я это вот называю «сиротство».
А.В.: — Мне нравится это слово. Я его специально не формулировал, я ведь больше эмоциями живу. А какие картины любишь ты, каких режиссеров ты держишь за своих учителей?
Б.Ю.: — Ты знаешь, во мне не остается ничего, кроме потрясения, испытанного мной. Вот память на потрясения — это и есть моя история кинематографа.
А.В.: — Вот отлично, расскажи.
Б.Ю.: — Последним кинематографическим потрясением для меня стало путешествие по Италии на спортивной машине, на которой я ехал от Неаполя до Венеции, по этим скоростным дорогам. И меня, собственно, вогнало в какую-то кинематографическую медитацию. И в ней я различил то, что для меня сегодня невероятно актуально. Я называю этот проект «порноренессанс». Я, собственно, увидел свойства ренессансной культуры, это просто невероятное освобождение человека во всех своих плотских и духовных ипостасях. Вот, например, на площади во Флоренции стоит скульптура. Подозреваю, что это копия, я сейчас боюсь переврать название — там три фигуры, похищение сабинянок, двое мужчин и женщина, заплетенные в невероятный узел. И вот я сидел в машине, гнал по скоростным дорогам, впал в кинематографическое забытье — а потом вышел и стал очень медленно обходить эту скульптуру. Она естественно, беспощадно откровенна, и вдруг я увидел, что в этой круглой скульптуре, которую я медленно, шаг за шагом обхожу, записано невероятное повествование, которое я как турист никогда бы не различил. А меня завихрило еще в машине, и я вышел, и этот вихрь стал медленным, подробным, и я стал обходить эту скульптуру, я стал видеть просто в виде таких глав повествование об отношениях двоих, мужчины и женщины. В каждом ракурсе мне открывалось напряженнейшее отношение двух тел, двух страстей. Оно развивалось: вот женщина доминирует, вот мужчина преодолевает доминант и отвечает ей какой-то невероятной телесной истерикой, вот они слились в какой-то невероятной нежности — это можно рассказать только при помощи трех фигур.
А.В.: — Борь, извини, я перебью, просто я понял, почему ты сказал, что для тебя это кинематографическое открытие. Если на тупой язык монтажа это перевести: мы берем и режем-режем-режем сцены долгой поездки, а в конце даем один общий план или деталь, и долго; тогда мы успеем рассмотреть его, и возникнет особое ощущение погруженности в объект или в суть. Это чисто кинематографический прием, это давление на зрителя: если я хочу, я делаю так. И именно это ты испытал, на тебя пространство оказало именно такое воздействие.
Б.Ю.: — И вот я иду вдоль, по кругу, по этому особому кругу. Если продолжить наши с тобой размышления, кино — это особый круг вокруг круглой структуры жизни. Так вот я иду по кругу и вижу, как дальше эти отношения развиваются. Вот это медленное движение по кругу, состоящее из шажков и остановок, во время которых я впитываю в себя ракурс, открывает для меня свойства круглой ренессансной скульптуры… Или вот, например, фонтаны: эта круглая скульптура начинает расширяться, расставаться сама с собой — и становится римскими фонтанами. И ты теперь уже идешь вдоль фонтана и понимаешь, что эти дискретные фигуры — это тоже кинематограф. То, что было стянуто в одну фигурную композицию, стало множеством. Но все то же самое. Вот такое у меня ощущение, фрагмент моего переживания. И получается, что сегодня порноренессанс — это…
А.В.: — Почему порноренессанс?
Б.Ю.: — Потому что порно — это, казалось бы, табуированное пространство телесных отношений людей, но при этом происходящих на территории страсти. Это не более чем метафора. Так вот порноренессанс — это то, что сегодня, как мне кажется, происходит с эстетикой. Кинематограф берет на себя этот прорыв, он уже взял его на себя. Это особого рода экстремальный прорыв в сторону табуированных областей, свойственных любому человеку. Но почему этот прорыв? Не для того, чтобы кормить клюквой или клубничкой, а потому, что это место, где можно рассказать дух сегодняшнего времени. Поэтому я и говорю «порноренессанс». Сиротство, а оппозит ему — порноренессанс. Саш, а вот скажи, пожалуйста, как ты планируешь свою карьеру? Как ты мыслишь свою карьеру, в каких она у тебя проявляется характеристиках внутренних?
А.В.: — Подсказывай…
Б.Ю.: — Ну, например, ты хотел бы… Мы наблюдаем за этими сказками каннского успеха, но зачем нужна карьера? Не для того же, чтобы на каждом шагу встречный человек автограф брал, а для того, чтобы ты получил свободу, независимость. Карьера дает нам иллюзию независимости: «Я диктую собственной судьбе реализацию своих самых прихотливых желаний».
А.В.: — За 10 лет существования в этом так называемом бизнесе, в этом роде деятельности, в кинематографе, я добился некоего положения, так что я снимаю только то, что хочу. То есть мне невозможно ничего навязать. И мне уже дают на это деньги, мне доверяют делать то, что я хочу. Как я воображал себе это раньше, я не знаю. Я помню только один случай: в 93-м году, когда я поступил на курсы, я еще ни разу не был за границей. И я сказал кому-то: «Первый раз я поеду сразу в Канны». Через 8 лет так оно и случилось — мой первый короткометражный фильм «Ты да я, да мы с тобой» попал в «Особый взгляд» Каннского фестиваля, и я в 42 года в первый раз пересек границу нашей Родины. Вот, наверное, это самое большое сбывшееся, хотя я и не ставил себе цели попасть с этой картиной в Канны, я просто хотел снять честное кино. Следующий фильм у меня был полузаказной — сериал «Закон». Уже была написана «Бригада» к этому времени, Леша Сидоров уже начал подготовительный период. Тогда-то и поступил заказ от Валерия Тодоровского на сериал «Закон». Никто еще не видел короткометражку мою, она только-только была отснята и еще не смонтирована. Я пришел к Валере на встречу и сказал, что, если мне дадут возможность снять сериал на ту тему, которая меня волнует — суд человеческий и суд Божий, я готов за это браться, если нет — я этого делать не буду. Хотя это по-любому был шанс — мы пять лет стучались во все двери, и нас никуда не пускали… Я не хвалюсь, я просто рассказываю, что со мной происходило. Наверное, можно это назвать каким-то противостоянием, что вот я хочу делать только это и так. Мне повезло, что продюсером «Закона» был Валера Тодоровский, сам замечательный режиссер. Он не оказывал на меня никакого давления; помогал — да, но не давил. Мне немало лет, я поздно пришел в кино и прекрасно понимаю, что мне надо успеть что-то сделать, чтобы найти в себе гармонию, может быть, даже и успокоиться… Не дай бог… Потом, та же история с Лимоновым, когда все боялись этого проекта, и вдруг мне позвонили, посмотрев несколько серий «Закона», с канала «ТВС». Они позвонили и сказали: «Мы хотим сделать с вами проект. Выбирайте какой». «Лимонов», — брякнул я. Через полчаса перезвонили, сказали: «Все решено, делаем…» Та же история и сейчас. Сценарий Игоря Порублева «Какими вы не будете» читали многие, он многим нравился, но запустить его рискнул только Сергей Члиянц. Я думаю, что некой свободы в этом смысле я добился.
Б.Ю: — А сейчас изменилось твое отношение? Сейчас твое сознание по-другому работает или все также соотносится со словом «карьера»?
А.В.: — Амбиции есть, конечно, и большие. И я думаю, что это правильно, что должны быть амбиции, иначе как ты будешь двигаться. Но главное — честный фильм.
Б.Ю.: — Тут парадоксально. Я прекрасно тебя понимаю, и даже как-то отзывается во мне материальная ясность различения тобой своего пути.
А.В.: — А ты себя не считаешь амбициозным?
Б.Ю.: — Как раз это я тебе и хочу сказать. Если я всматриваюсь внутрь себя, то для меня ощущение карьеры — это право и возможность ухода в тень собственного имиджа. То есть для меня карьера — это тень. Это возможность не быть на виду. Профессиональный успех — это право на самостоятельное творчество и возможность для этого. А вот у меня это слово связано с правом на изменение всей природы своего творчества и своих отношений с обществом, перехода в тень. Вот что такое для меня карьера.
А.В.: — Но это же свобода.
Б.Ю.: — Естественно, свобода. Я тебе об этом и говорю. Я так и пережил свою карьеру. Я в какой-то момент, как мне показалось — возможно, это были мои галлюцинации, — достиг успеха в общепринятом смысле. То есть очень много мое имя склонялось в средствах массовой информации, мне звонили, делали всякого рода предложения. И в этот момент я вдруг взял и ушел в тень. Скрылся, сокрылся. Сокрытие — вот что мне обеспечивает карьера.
А.В.: — Борис, извини за такой вопрос. А в этом, может быть, была какая-то неуверенность?
Б.Ю.: — Нет. Не было никакой неуверенности, а именно была уверенность. Потому что для того, чтобы сокрыться, у тебя должна быть карьера, понимаешь, да? Карьера — это некое положение в обществе, ПВО я это называю… И вот твое личное ПВО достигает такой зрелости, что в принципе ты на это уже можешь опираться, и общество адекватно на это реагирует своим предложением тебе. Вот в этот момент есть две возможности: воспользоваться тем предложением, что делает тебе общество, или отказаться от него. Вот для меня карьера — это отказ от такого типа предложения.
А.В.: — Знаешь, есть такое выражение — «оседлать тигра». Понимаешь, о чем речь, да? Если ты не можешь справиться с тигром, то вскочи на него и несись вместе с ним. То есть ты не можешь его победить, но ты можешь оседлать его.
Б.Ю.: — А я тебе приведу другую притчу, восточную. Не философскую в данном случае. В этой картинке человек застигнут между пропастью и надвигающимся на него рычащим тигром, и в этот момент он изучает свойства лепестковой структуры цветка, который у него под ногами оказался.
А.В.: — Я понял, понял. Вот это выход в тень, да?
Б.Ю.: — Да.
А.В.: — Ну это вопрос мировоззренческий уже больше.
Б.Ю.: — Это вопрос двух образов, которыми мы обменялись. Теперь у меня появилось желание оседлать тигра, а у тебя, возможно, понюхать цветок.
А.В.: — На самом деле хочется совмещать и то и другое.
Б.Ю.: — Но оседлав тигра, трудно всматриваться в цветок, если только ты его не сорвал.
А.В.: — Но если ты его сорвал, ты его погубил.
Б.Ю.: — Но зато можешь его рассмотреть, даже засушить.
А.В.: — Сидя на спине тигра. Это и есть общение. Оседлать тигра и одновременно рассмотреть цветок.
Б.Ю.: — Отлично.