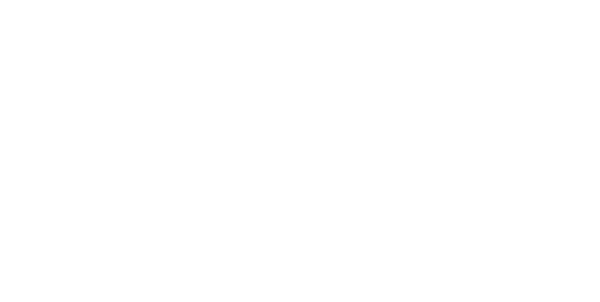7 – 8 декабря 2019 года состоялись первые гастроли «Золотого осла». На международном Рождественском фестивале искусств были показаны две композиции, «Белая» и «Город», а днем Борис Юхананов разбирал с молодыми режиссерами показанные ими модули. Публикуем текст одной из таких бесед.
Новосибирский государственный драматический театр "Старый дом", работа "Скажешь, когда хватит".
Постановка: Олег Циплаков. Исполнители: Василий Байтенгер, Евгений Варава, Александр Вострухин, Полина Кардымон, Ксения Марамзина, Анастасия Пантелеева.
Ребят, а вы хотите поговорить? Размышления мои такие. Дело в том, что когда-то давно я встретился с проблемой вампирического и донорского искусства. То есть вампирическое и донорское начало – это касается не только искусства. Театр участия – а то, что вы делаете больше всего похоже на свободный театр, на театр участия – так устроен. Это проблема такого образа взаимного существования людей. Он замкнут на себе. То есть удовольствие, смысл и вся история остаются в капсульной ситуации, внутри компании. Поэтому всегда возникает проблема репрезентации: с чего вдруг это показывать другим? Каналы для репрезентации оказываются перехваченными провокативным актом. Но у провокативного акта сегодня в культуре очень ограниченный диапазон действий, в силу того, что он питается уже состоявшимся социальным веществом, каким бы оно ни было. В этом смысле, есть свободное взаимодействие людей – прекрасных разных людей, любящих друг друга. Они остаются замкнутыми в стремящейся к капсулизации территории общения. А эта территория быстро себя выедает. Если ты паразитируешь на социальном или на каких-то других состоявшихся явлениях, то пока они действуют и несут в себе какую-то энергию, ею можно питаться. Но как только эти явления перестают кровоточить и участвовать в актуальном пространстве жизни, отмирают и паразиты. Вот как это устроено.
Если посмотреть на эволюцию партиципаторного театра или любого имеющего паразитические свойства социального организма, то он жив, пока жив его носитель. А потом он теряет возможности для существования, и тогда требуется какой-то источник изнутри компании. В эту секунду возникает движение от вампирического в сторону донорского. У меня в 80-е годы было такое понятие «высокое паразитирование», потому что мне пришлось дать отчет мутациям партиципаторного искусства. Я испытывал переживания, связанные с тем, что я должен заставлять людей под разными соусами отдавать много времени и должен сосать у них энергию. Мне не хотелось оказываться в вампирической ситуации.
Советская самодеятельносмть
Так на самом деле существовала советская самодеятельность, но она была лишена желания репрезентации, желания выйти за свой круг. Потому что самодеятельность так и определяется: люди должны получать удовольствие друг от друга и от того, чем они занимаются. Другое дело, что второй аспект самодеятельности – это присвоение каких-то посторонних для них форматов. Ты заходил в советские Дома культуры и видел, что там висят портреты участников этой самодеятельности – точно так же, как в театрах висели портреты актеров. Они тоже говорили жирными голосами и получали удовольствие от того, что приобщились к чему-то уже состоявшемуся. Вот партиципаторный театр, его смысл и развитие – в том, что формат он преодолевает, но не до конца. Если понаблюдать, куда уходят усики, по которым идет желание вообще чем-либо заниматься, то можно увидеть, что эти усики настроены на уже состоявшееся. Подсос уже существующего формата просто скрыт от самих участников, и не так просто его обнаружить. Поэтому и созревает вампирическое. То есть, с одной стороны, это такое самопотребление уже состоявшегося, а с другой стороны, это зависимость от окружающего и отношения с этим. Пока окружающее живо, как я уже сказал, это может держаться на выходе из самого себя. Но как только окружающее отмирает, это все тоже схлопывается. Вот что и произошло с самодеятельностью. Ведь она созрела во времена, когда окружающее скукожилось и превратилось в ничто – во времена уже брежневского декаданса. Когда вокруг сложившихся самодеятельных образований была смерть. На эту смерть стало реагировать живое и начало разыгрывать эту смерть до тех пор, пока не появилась жизнь. Вот некрореалисты, Женя Юфит и компания, они как раз скоморошествовали, юродствовали и разыгрывали смерть. Компании, которые были заняты не столько изобретением или проявлением формы, материи действия или процесса, они скорее рефлексировали на эту смерть. А хорошо организованная рефлексия в итоге приводит к накоплению энергии, этой энергией тоже можно было как-то питаться и существовать определенное время. Энергия, связанная с вниманием: когда предметом рефлексии была смерть слова, например. Но это недолгий процесс – это или окончательно загибается, или превращается во что-то иное.
Пограничные ситуации
Наиболее сильное выделение энергии – в пограничных ситуациях. Вот сейчас наш отечественный театральный процесс оказался в пограничной ситуации, когда есть один уклад жизни – с феодальными домами, с теми форматами говорения, смотрения, осуществления действия, который там был выработан. Есть замечательные мастера. И есть второй уклад, который переживает свое становление. А какое же он может переживать становление? У него выбор очень простой. Он может заимствовать и приобщаться, ощущать себя в своем потребительском соучастии к шедеврам, например, европейского театра и впитывать их, как это свойственно было барышням XIX века, когда они питались сентиментальными романами, впитывали и ощущали себя героями этих романов. Анекдотическая ситуация: роман – это же несуществующая территория, а приобщиться к той поэтике, из которой растет сентиментальный роман, можно было только по-русски: Карамзин и другие. Из них потом созрели тургеневские женщины и пошло-поехало. Между анекдотом и растерянностью, вот такого типа анекдотом готовности к тому, чтобы чужие форматы захватили твое нетронутое невинное бытие, располагается Россия. Россия всегда через женщину передается. Во всех русских текстах подлинная героиня – это не просто описание или отражение русской женщины. Это высказывание о России. Как греческие статуи – они же не про женщин греческих, они воплощали только богов, а не людей. То есть они идеальны.
Мы оказываемся в такой пограничной ситуации, когда этот второй уклад не созрел, он вроде как зачат, а вроде и нет, и что там дальше будет… Как существует другой уклад, устоявшийся в истории русского театра – это понятно. Другое дело, что никто не хочет из нового поколения людей всмотреться и осознать, есть ли там потенциал для жизни, и что вообще в себе несет драматический театр, игра, те техники или свойства, на которых зиждилась эта культура. Она сейчас намного дальше для молодого сознания, чем европейская культура, и ее труднее достигнуть. Наиболее радикальным жестом было бы – и это произойдет, как мне кажется – если бы какие-то люди зашли туда, вот в это искусство драматической игры, и заново его для себя открыли и оживили. Если говорить о каких-то источниках русской души, русского человека, о свойствах драматической игры как таковой, то здесь однажды уже произошла эта встреча и дала потрясающие результаты.
Как, например, английская музыка, менестрельская, рок-музыка – она коренным образом принадлежит англо-саксонской цивилизации. И каким-то образом там все время проявляются люди, которые заново ее открывают и очень убедительно на весь мир это демонстрируют. Я сейчас не могу подробно об этом говорить, потому что просто сейчас не занимаюсь этим вопросом. Когда-то в 1980-е годы я изучал, пытался сделать спектакль, связанный с рок-культурой, тогда мне это было очень интересно. А вот у французов, например, идентичность другая. Она связана с другим образом менестрельской музыки. Когда-то музыка ведь так и делилась: жреческая и менестрельская. Скажем, мюзикл. Это как трава: чтобы получить английскую траву, нельзя же просто пересадить здесь газон. Надо постригать его триста лет. А если этого не делать, то не будет нужного качества травы.
Количественное и качественное
Я просто ставлю перед вами, ребята, этот вопрос: существует ли различение в качестве? Или только в количестве? Если существует различение в качестве, откуда начинается размышление о форме и о чем-то еще, тогда разговор оказывается художественным. Если только о количестве, которое никогда не перейдет само по себе в качество, тогда разговор оказывается социальным, телевизионным. Вот куда отправляется ваш месседж, ваше послание? Причем живое для вас, я это вижу, и реальное в этом смысле. Телевизионная программа: например, телевидение «современное искусство». Вы делаете на таком телевидении хорошую акцию, с говорящими головами, которую можно подрезать и подмонтировать… Телевидение всегда интересовалась зонами участия. То есть там, где нет вопроса о качестве, а есть отражение тех или иных социальных явлений. В этом смысле ваш перформанс отчетливо имеет черты нового телевидения. Он стремится к аннулированию живого участия, к цифре. То есть туда, куда сейчас устремляется коммерческое или какое-то иное телевидение. Это социальный акт, а не построенный на отношении «между», как это свойственно медиа – они коммуникативны по своей природе.
Когда коммуникации задаются вопросом, например, о красоте, они могут только перечислять – это же не вопрос для них, это утверждение. Поэтому они могут красоту взять, например, только в социальном измерении: «смотрите, она менялась» или «смотрите, как сегодня она существует». Это как раз то, чем заняты коммуникаторы. А дальше, соответственно, ставится вопрос: а может ли на территории коммуникации созреть качество? Можно ли стать донором? Вот я сейчас попробую вывести некую аксиому: донором нам не удастся стать, потому что в эту секунду коммуникация разорвется, и главной функцией станет какая-то другая, не коммуникативная. Может ли коммуникация стать источником какой-то новой донорской художественной вселенной, простите за пафос? Может. Но в эту секунду она разорвется. Вы успеваете за мной, ребят? И этот детеныш, следствие этой метаморфозы окажется на другой территории. На какой? На художественной территории. На него обрушится вот это вопрошание и критерии, которые уже связаны не с коммуникативным актом, а собственно с художественным.
Баланс коммуникативного
Это очень простая модель, вообще не затейливая. Пока я нахожусь в коммуникативной связи, то есть сообщаю вам о некоем социальном явлении (косвенно, я его отражаю). Вот зародилась открытая ситуация, лишенная предыдущего уклада и оказавшаяся перед ложным симуляционным выбором. Заимствовать европейское мы не можем, потому что у нас нет такой цивилизации, и в акте заимствования мы будем превращаться в пародию и «Запорожец» будет казаться «Мерседесом». Адекватность удерживает чуткие души от художественного подражания, заимствования или участия в тех или иных форматах – тогда они удерживаются на балансе коммуникативного. Они сообщают, они делают дистанцию, каким-то образом все время откладывают себя от рождения. Вот это «отложенное рождение» и ответственность, связанная с ним (не ответственность наружная, а ответственность жизни перед самим собой), может обращаться в плач или в претензии. Это всегда созревает к друзьям, к врагам, к критикам – к кому угодно, оно все время будет воспроизводить систему претензий. То есть оставаться на территории до-рождения, оставаться в коммуникативном поле. А если оно посмеет родиться, то окажется в другой системе критериев и в одиночестве, потому что никто его не будет поддерживать. И тогда оно может погибнуть, потому что рискнуло сделать шаг вперед. Это тот риск, на который обречен весь этот ваш молодой прекрасный импульс, который по-разному распространяется. Их не так много, этих компаний: чтобы они возникли, требуется какое-то воспитание сознания, рефлексивного, интеллектуального, обращение с новыми технологиями – то есть какая-то уже насмотренность, надышанность, наговоренность, взаимная погруженность в какие-то актуальные или не очень смыслы. Но этого же недостаточно – это чувствуют исходя из инстинкта выживания. Только очень рисковые компании и люди делают шаг вперед, а на самом деле – все еще тормозят и буксуют на коммуникативной территории.
«Монстрация» же в Новосибирске родилась? Вот «Монстрация» прекрасна. Это коммуникативный акт, это удержание себя от участия в актуальном искусстве. «Монстрация» – пример хорошо придуманного, пограничного коммуникативного акта. Акта на соседней территории, который задействует энергию, накопленную в отношениях с социумом и здесь балансирует. Последняя актуальная история, которая происходит вот прямо сейчас – это история с бананом. Несколько дней тому назад чуть ли не за 150 тысяч евро был продан банан, который прилепили скотчем к стене. Но самое интересное – то, как это развивалось дальше, это реальный открытый акт. Какой-то другой художник подошел, оторвал эту штучку, очистил банан и съел. Естественно, на камеру документируя эту историю. И сейчас стоит вопрос. На аукционе уже был продан этот банан. Соответственно, он съел проданный банан. Ему сейчас пишут люди, которые готовы его юридически поддержать – развитие банана продолжается дальше. Понимаете? Мы не просто так оказались на банановых плантациях в нашей жизни – вот они эти банановые страсти и банановые республики современного искусства.
Концептуализм
Интересный момент с этим бананом. Это же тоже целая традиция провокативной художественной агрессии. Когда-то мы дружили с Сашей Бренером. Он в свое время сделал много актов в эту сторону. Знаете, как называли концептуалистов во внутреннем круге? «Волки – санитары леса». Их акции очищали воздух от всей той дохлой гнили и инерции тех выделений, которые заполонили территорию искусства. В этом смысле подлинный концептуальный акт несет в себе исцеляющий жест, вот в чем парадокс. Он не несет в себе иного, особенного типа утверждения, он не располагается там, где прекрасное и ужасное, он не в этих категориях. Там вообще мало что располагается. Изменилась сама по себе парадигматика жизни, давно изменилась, и эти категории исчезли не сегодня, не в XX веке – они в принципе, как актуальная пара, исчезли в Средневековье. А потом это подтвердилось развитием Просвещения и так далее. И они вернулись не на территорию актуального переживания художника. Художник этим не увлечен, в последние пятьсот лет его это вообще не интересовало. Они вернулись на рынок вместе с тем, как искусство получило рыночное измерение. И тогда в этих артикуляциях возникли понятия «красота», «уродство» – то есть социальное, то есть телевидение. Художник этим вообще не интересуется, этого нет в художественном импульсе. Что бы мы ни имели в виду под словом «художник». Давайте его определим сейчас заново? Это тот, кто освободился от коммуникативного захвата, кто посмел родиться и сделать шаг в это рискованное пространство, где он двигатель самого себя и где он отдает, а не получает. Где он наконец расстался с этим распятием, на которое он сегодня обречен. Он перестал быть проводом, условно говоря.
«Не делай лишнего»
Я в свое время исследовал вопрос, связанный с коммуникацией. У меня даже была работа «Введение к теории коммуникативных связок». Это понятие вообще очень актуально для партиципаторного настроения жизни, для участия. Выращиваешь ли ты миф или ты занят какой-то иной стратегией… Тут много о чем интересном можно поговорить, но я сейчас приостановлю свой поток. Не для того чтобы как-то обидеть людей, а просто чтобы прерваться. Прерваться можно в любой момент, но важно прерваться как на хорошем уроке – когда ты что-то сказал. Это бритва Оккама, да? То есть «не делай лишнего» – один из критериев вот этого нового допингового искусства, которое я сейчас здесь провозглашаю. Дело не в том, много ты делаешь или мало, важно – лишнее ты делаешь или нет. Вот на этой новой территории, куда с риском для реальной жизни своего сознания вот-вот выйдет много молодых людей, освободившихся от всех видов ангажементов, захватов, какими бы они ни были, и попробуют двигаться в сторону нового искусства (если корректно сейчас так говорить, в чем я не уверен – слишком много пафоса). Есть проблема в лексике. Вот Годар в последнем интервью говорил об этом. Там, на этой территории уже невозможно будет говорить словами. Там язык начинает приобретать 3D, 5D, сам по себе он перестает быть языком, который может выговорить мир. В старом театре, например, это язык действия – то, что нельзя назвать словами. Я согласен здесь с Годаром, я глубинно понимаю, о чем он говорит. Вот эта новая иррациональность, преодоление картезианского мышления, которое захватило и заполонило собой европейское.
Вы здесь на уровне чтения коснулись многих, вполне нормальных тем. Правда все эти темы немножко в стороне от актуального, на самом деле. Где-то там, где располагается засранная мухами прошлого комментарийная периферия настоящего. Если уделять большое внимание этой обочине, этой рамочке, то тогда можно в ней участвовать. Как бывает: ты приехал в дом деревенский, а там очень много мух. Ты же приехал не для того, чтобы весь день их убивать. Но ты начинаешь по ним колотить и остановиться не можешь. Они опять жужжат и жужжат все активнее, ты опять их колотишь. Потом начинаешь думать про этих мух и вместо того, чтобы сделать то, ради чего ты приехал – отдохнуть – ты убиваешь мух. Так смещается наш интерес куда-то туда, о чем даже говорить не хочется. Так и с идеями, и со словами, и со всякого рода теориями. Они как мухи.
Этика и технология
Из зала: Борис Юрьевич, получается, что партиципаторный театр априори не может быть донорским, а может только вампирическим?
Сложно. Это художественная проблематика, которую предстоит выдумать и освоить вот вашему поколению. Можно ли раскапсулизировать капсулу, и что тогда произойдет? Это в принципе уже располагается там, где высокая инженерия.
Друзья мои, я не очень закрыто говорю? Нормально, да? Прошу прощения, если мой разговор закрытый. Серьезный разговор, в котором идет эвристика, то есть здесь и сейчас получаемый смысл, не может быть одновременно репрезентативным. Существует своя иерархия в идеях: если ты хочешь что-то получить здесь в разговоре – живой смысл, которого до нас не было – надо оторваться от коммуникации, от репрезентации, от театра и от чего угодно. Создать такую территорию – и мы ее создали на несколько секунд – где может состояться мышление. Это должна быть общая территория. Вот на таких основаниях образованная партиципаторность, то есть участие в идеях, именно здесь и сейчас рожденных в вашей компании, – она может перевести вампирическое в донорское при помощи техники, которую условно я сейчас назвал бы эвристикой, то есть местом, где реально возникают новые идеи.
А дальше вопрос, связанный с так называемым крестом. Что я под этим имею в виду? Вот есть вертикаль, а есть горизонталь. Сейчас очень интересно изучается так называемый горизонтальный театр. Это слово, как мне кажется, актуально и для вашей компании. А вертикальные свойства театра меньше изучаются. Потому что есть претензии к манипулятивному, к иерархическому… Дальше встает вопрос: если мы этически их рассматриваем, то это очень понятно, а если технологически, то не очень. Тут своя путаница технологии и этики, и неправильно этическое делать технологическим, потому что вы на самом деле его лишаетесь по пути. Вы оказываетесь в системе грез кролика. Кролик продолжает трахать все вокруг и жрать салат, но при этом грезит о том, что он очень демократичен. Он говорит: «Я не царь природы! Тоталитарное не пройдет…» Так ты и не царь, ты просто кролик, который должен трахаться и жрать салат, почему ты вдруг озаботился такими проблемами? А царю зверей это в голову не приходило. Он просто жрет лань. Вот, например, упомянутый мною Жан-Люк Годар. Я помню, как в 80-е годы мы говорили: «Ну что там Годар, все это устарело». Я так не говорил, но я был не против, если рядом со мной произносили такие слова. Но странно, что из всего множества «устаревших» фигур… Все, кого особенно активно клеймили, что они устарели, остались живы и интересны. А те, кто их клеймил, почему-то, к сожалению, исчезли, как кролики по имени Моська.
Вот чтобы не состоялось судьбы кролика, и он не получил себе имя Моська, очень важна адекватность. А связана она с любовью к себе, а не к другому. Перед тем, как озаботиться любовью к Другому, надо полюбить себя. Вот и вся история. А полюбить – значит, различить, приобщиться, участвовать в себе. Тогда возникнет достоинство. А если возникло достоинство, то этика не нужна. Этика как инструмент ведь необходима там, где не хватает достоинства, чтобы его как-то накачать. Иначе это будет гавканье кролика по имени Моська на слона жизни. На какие-то глобальные процессы, которые никак не могут быть отрегулированы в этом тявканье. А сама жизнь будет происходить в образе тявканья и постепенно сходить на нет. Если же ты сам достойный и Другой достойный, то чего по этому поводу париться? Тогда возникает место для осуществления художественного акта, создания общей территории, размышления. И мы уже не потребляемся обществом потребления. В чем его захват? Оно нас потребляет. Почему? Потому что мы начинаем о нем думать и решать его проблемы. А мы здесь создаем территорию, где нашим искусством, достойным нам, начинаем обмениваться. Территория обмена, скажем так. И тогда нет проблемы лидера, проблемы авторитарной фигуры, которая давит своей харизмой. А есть разные люди, которым интересно друг с другом и которые находят в этом интересе взаимное развитие. Так мне кажется, я бы сказал, что мой опыт говорит об этом.
Конечно, постепенно на этой территории образуются функции. Кто-то играет, кто-то предлагает с дистанции, со стороны размышления об этой игре. А игре нужен Другой, который о ней отзовется. Так она устроена по своей природе. Образовав такого рода общность, мы получаем из нее же максимум возможностей, которые она может нам передать. Так партиципаторный театр переходит из горизонтальных связей в сферические. Тогда он оказывается сферой. Он впускает в себя и образует такой объем, который дает возможность развиваться универсальному потенциалу человека. А если на плоскости, то есть горизонтально, сама по себе этика будет сдерживать технологию развития, потому что она заняла место, которое не должна занимать. Тявканье стало образом жизни, технологией. Общество потребления употребит своими процессами ваше время, вот что будет происходить. Когда я говорю о новой процессуальности, например – вот вы надо мной шутите, и я вам благодарен за это – я говорю о чем-то очень простом, на самом деле. Я же не говорю о стиле, о художественном… Это понятно: ты произнес что-то в виде дефиниции и, считай, что ты погубил то, на что пытался указать. Из-за коммуникативного и социально-культурного перехвата, который в этот момент происходит. А заново тратить время на очищение этих слов для какого-то действия, у меня, например, просто не хватает сил и времени, к сожалению. Поэтому я не очищаю.
Расставание с законами
Новая процессуальность – это та самая открытая территория, где происходит становление уникальности художественного акта. Просто я, изучая ее свойства, обнаружил, что это происходит по определенным законам. Но в художественном деле законы не могут претендовать на окончательность, завершенность и особенно – на вечность. Закон – это такой инструмент, который помогает состояться становлению, развитию. А потом сам закон портится, и надо с ним расстаться, не надо его утверждать дальше. Надо его поблагодарить – он отработал свое. Меняется человек, интерес и многое-многое другое. Я сейчас не буду перечислять, чтобы не уйти в профанацию. Так вот закон оставьте в музее, памятнике культуры, для людей… В искусстве, так же, как и в науке – это удивительная тайна, почему так происходит – нет вечных законов. Это то, что в последние десятилетия нашей жизни уже обнаружено. Или о том, что закон не вечный, нам должен сообщить кто-то, кто имеет такой статус и авторитет, что мы называем его «мудрец». Сообщение мудреца мы проверяем каждую секунду. Не так, как в джунглях проверяют власть Акеллы над стаей, а каждую секунду – как ребенок проверяет своего родителя. Он каждую секунду должен убеждаться, что мудрец – мудрец. И вот если мы, все наши отцы и матери все секунды нашей жизни дергали его за фалды и убеждались, что он мудрец, тогда стоит воспользоваться этой мудростью. Но мы пользоваться ею можем только один раз, снова дергать его и требовать проверки. Тот, кто оказывается в такой ситуации перед миром, это мудрец, и через него проходят какого-то иного качества законы мироздания. Поэтому нас все равно тянет к священному знанию. Но я сейчас не об этом. Я о тех законах, которые открываем мы с вами в партиципаторной сфере нашего общения.
Сфера
И последнее, что я могу вам сказать, друзья, оставаясь вместе с вами в пограничной коммуникативной ситуации. Я хочу поделиться некой техникой. Как устроено сознание? Если оно не перешучивает, не на отношении с миром построено, а пытается оказаться в ситуации рождения мира. Что такое участие? Как я вам уже сказал, как только оно капсулизируется, вы оказываетесь в этой капсуле. Вы хотите достучаться до того, кто вас загнал в эту капсулу, до той энергии, а не можете. Вы начинаете питаться собой, а это быстро кончится: вы разобьете стекло в агрессии расставания и разойдетесь. Или вы будете жаловаться на тех, кто, как кажется за стеклом, вам что-то не позволяет делать. Вы же за стеклом – им на вас насрать. Это вам кажется, что они вместе с вами. Нет.
Для того, чтобы не возникало вот этого остекленения, этой оранжерейности для новой энергии (она же есть, не вампирическая и не донорская – она нейтральная), требуется допустить свою душу до сферы. То есть открыть для своей души не только иссушающее сознание рациональной или пострациональной концептуальности, но и иррациональные сферы. То есть рассмотреть мир на кресте. Что это значит? Я на секунду поделюсь этой техникой, но я на ней не настаиваю, потому что не в ней дело.
Вот возьмите крест и наложите на любой текст. Что такое крест? Поймите правильно, особенно из моих уст, это ни в коем случае не является пропагандой христианства. Но и не является чем-то по отношению к христианству неприличным. Просто рассматриваю этот достойный знак в череде множества других достойных знаков. Возможно он даст основания и другие знаки услышать в своей действенной силе. Представим себе, что нижняя часть креста на вертикали – это те обряды и действия (молитва, например), которые человек совершает в отношениях с творцом, богом, с трансцендентным и так далее. Правая часть креста – это то, что связано с социальными идеями, энергии, связанные со страстью или разочарованием, с участием в социальном в широком смысле. Левая часть креста – это частное, интимное. Любовь, переживания души. А вот верхняя часть креста – это переживания, которые не выскажешь словами, они являются минующим разум иррациональным поступлением высшего мира или того, что нашему сознанию кажется. Мистические озарения, чувство точного знания о чем-то, всякие синхронизации и тому подобные вещи. У каждого человека это свой набор.
А есть еще точка, где все эти линии сходятся. Представьте себе, что существуют техники, связанные, например, с драматической игрой. Техники, открытые как законы, и они реально принадлежат русскому театру. Они не то чтобы были известны, особенно западному театру, они принадлежат драматической традиции русского театра. Например, техника психологических структур, как говорил мой учитель Анатолий Александрович Васильев. Хотя он научил меня только одному: разучиться всему, чему он меня учил, и отказаться от этого. Поэтому он хороший учитель, настоящий. Но так или иначе я знаю эту технику и благодаря тому, что я от нее не завишу, я могу ей пользоваться и выстраивать к ней любого типа дистанции. Это техника работы с психологическими структурами. А дальше Васильев (я сейчас всю преамбулу отброшу) открыл законы игровых структур. Это реальные и очень интересные законы, которые позволяют идеям оказаться в игре. Психологические структуры связаны с тем, что наши чувства мы можем обнаружить в игре. То есть в допинге, игра – это источник допингового искусства. Если мы сейчас говорим о драматическом. Перформативное может от этого отказаться, а может и не отказываться. Психологические структуры, в первую очередь, в русской традиции, которая естественно забыта, и никто этим не владеет. Но все равно сила здесь есть, ее просто надо заново открыть. А вот игровые структуры позволяют встретиться с любым народом. И здесь игровой театр тоже созрел, но его источником является Античность. Все античные тексты вплоть до Просвещения. То есть, если хотите открыть для себя, например, европейский драматический театр и понять, в чем его тайна – изучая игровой театр, вы мгновенно (условно) начнете это постигать.
Я сейчас образую треугольник. Итак, есть техника психологическая, есть техника игровая. А есть еще одна техника, которая подчиняется прямой канве – мифологической или какой-то другой. Назовем ее новомистериальный театр. Это прямое подчинение канве, как бы внутреннему мультфильму истории. Полное к этому доверие, включение всей рациональной природы своей в связи с той или иной ситуацией – бытовой, идеальной, мифологической и так далее. Как это играть – целая техника. Вот мы образовали особо рода треугольник. Теперь возьмем крест. Мы можем его накладывать на любой текст или на то, что мы назначим как текст.
Накладывать можно по-разному. Например, «я люблю тебя» можно наложить нижней частью вертикали, а можно – верхней. Понимаете, да? Это будет совсем по-другому пройдено. Когда любовь вырождается в бесконечные разборки на кухне, «я люблю тебя» можно наложить на левую часть. Это начинает совершенно по-разному звучать на кресте. Но если к этому добавить как технику левую часть треугольника – психологическую – это будет одним образом пройдено, правую часть – другим, нижнюю часть – третьим. И вот если начать вращать треугольник и крест, то будет образовываться открытая сфера. Не капсульная, а открытая. И партиципаторный театр выйдет наружу. Для этого просто надо кое-что освоить. А если не освоить эту технику, то стоит освоить другую. Вы же без скафандров в космос не выйдете, вы же там задохнетесь. То есть, не потрудившись, не поучившись друг у друга. Не обязательно у дяди Васи. Хотя кто вам мешает взять у дяди Васи то, что он может дать. Уйдя из-под комплексов новой социальности – если существует интерес к художественному, к реализации в этом смысле – вы можете воспользоваться уже имеющимся в космосе вашей жизни, различив его простым инстинктом, чутьем. Оторваться от бесконечной критической функции искусства – это наебка большевиков, недавно появившаяся. Ни одному подлинному художнику в голову не могло прийти, что, оказывается, главная его функция – критика. А подобное – подобному. Если человек думает, что главная его функция – критика, его начинают интересовать критики бедные-несчастные и он начинает с ними соревноваться, у кого яйца тверже, даже если речь идет о другом поле.