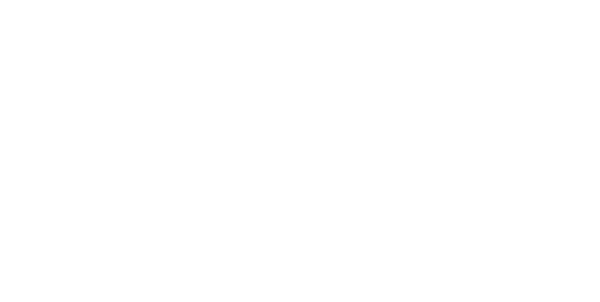"Мы существуем в очень странной и достаточно неожиданной для современной культуры форме, в виде саморазвивающейся структуры «Сад». Каноническим текстом для такого существования избрана комедии А.П. Чехова «Вишневый сад», которая подвержена нами практически универсальному способу разработки, на который мы сегодня могли решиться, и который как-то оказался сегодня подвластен нам, в смысле каких-то реальных с ним работ. Значит, мы существуем и существовали в виде своеобразного, трехдневного действия. Это перманентное действие, и в то же время возникают вспышки густот, сугестий что ли, в которых мы более плотно существуем и овеществляемся и в форме разнообразных визуализаций, и в форме драматического действия".
Корр.: А как вы определяете степень этой суггестии?
Б.Ю.: Очень просто. Дело в том, что сам текст вначале разрабатывается очень серьезно как структурный текст, и там делаются разного рода художественные подводы, подходы и т.д. Летом мы сделали «Сад». Отсняли. У нас это все есть в виде документации существования структуры. Тогда он существовал в виде драматического действия и в виде специальных акций, ритуалов. Эта работа связана с существованием в мифотворческом пространстве, принципиально лишенном оппозиций. Одна из идей – это снятие оппозиций.
Корр.: О какой оппозиции идет речь?
Б.Ю.: Обо всех оппозициях. Тех оппозициях, которые актуализировались в 80-е годы. Например, оппозиция: академическое – авангардное, или поставангардное, трансавангардное.
Корр.: Т.е. против какой-либо дихотомии?
Б.Ю.: Ну да. Это преодоление, это исследование. Когда «против», вы рождаете следующую оппозицию. Я пока только что-то обозначаю, потому что дальше все это надо будет проработать, показать. Это, в общем, довольно серьезный труд. Я сейчас не разворачиваю в сторону вашей темы книги, хотя она к нам относится, потому что парадокс нашей работы заключается в том, что, с одной стороны, развивается очень серьезное удаление, связанное с мифотворчеством или с жизнетворчеством, с понятием мифа в том его смысле, в каком он живет сегодня. Структура нашей работы к этому обращена, что практически ежедневно проявляется в разных ипостасях. С другой стороны, были какие-то периоды полноценной драматической игры, насыщенной чеховским текстом, или даже сочинением по мотивам этой пьесы новой драмы. Все это у нас зафиксировано на видео – 13 часов первых видеоматериалов. Это глобальный проект. Одновременно с этим началась и двигалась работа, связанная с экспозиционным пространством, которое мы сейчас овеществляем в виде галереи «Садовое искусство», галереи «Сад».
Я Вас приглашу, если Вам будет удобно, на вернисаж. У нас есть помещение, там размещаются объекты и т.д., и т.п. Мы откроем это пространство, достаточно неожиданное, как мне кажется, для столичного сознания, которое увлечено соцартовскими играми, например, или иронией. Это будет садовое искусство. Там будут садовые объекты. Все это напрямую связано с идеей Сада, плодоносящего пространства...
Корр.: Ещё не вырубленного?
Б.Ю.: Нет. Сад неуничтожим. Это основная идея чеховского текста, который мы открыли, по отношению к которому стали разрабатывать дальнейшие векторы существования.
Это история или миф неуничтожимом Саде. Сейчас мы находимся уж на третьем уровне работы. Автор-создатель и автор-зритель. Сегодня практически очевидно, что зритель, его существование, преисполнено авторскими векторами, оно кишит ими, и вот кишение авторских векторов, заключенных в зрителе, может быть подвержено определенной обработке. Связано это с тем, что иначе, в моей лексике, можно было бы назвать как присоединительный контекст. В сферах поп-культуры или масс-медиа сюда часто привносятся такие понятия как имидж, которое разрабатывает, образует или имитации, или симуляции, или реальные присоединительные контексты в пространстве социума и культуры.
Корр.: Это требует от зрителя какой-то осведомленности об имидже автора.
Б.Ю.: Не только осведомленности. Хотя эта осведомленность может быть даже на физиологическом уровне, т.е. он может быть даже не осознавать свою осведомленность, она будет просачиваться в него.
Корр.: Т.е. имиджи могут не совпадать - авторские и зрительские?
Б.Ю.: Конечно. Имидж – это тоже такое плывущее созидание себя в собственном социальном бытии. Ну, скажем, Дэвид Боуи, он же все время его меняет, его невозможно зафиксировать как конкретный имидж. Например, Боря Гребенщиков транслирует именно Дэвида Боуи и в начале 80-х годов присоединял массы увлеченных рокеров и фанов именно к имиджу Боуи, а не к своему собственному имиджу. Таким образом, он был агентом чужого имиджа.
Корр.: Это авторские игры...
Б.Ю.: Это не авторские игры, это игры внеавторские. Дело в том, что Дэвид Боуи не является автором своего имиджа, он лишен по отношению к нему того, что принято в традиционном смысл называть авторством, т.е. абсолютным контролем над произведением. Он создан в той же мере самим собой, как и своим продюсером. И сам этот его имидж не может быть зафиксирован как единственный образ в пространстве, во времени или в каком-то культурном событии, потому что он течет, он изменяется, как и всё остальное. Это одна сторона работы присоединительного контекста. Над контекстом, который имеет функции присоединения. С другой стороны, сегодня в деятельности, связанной вот с этими сферами, существует то, что понимается под всевозможными информационными зонами: мультимедиа, коммуникативные линии и связи, по которым тоже течет информация о происходящем в сфере автора бытии. То ли это тексты, идущие от автора, то ли это реклама, то ли это просто некоторые акции, проведенные по отношению к авторскому бытию или тем или иным персонажам и т.д. И все это тоже накапливает, с одной стороны, бытие авторского пульса или вектора, а, с другой стороны, складывает присоединительный контекст, на котором формируется зритель как участник действия. И вот таким образом сформированный зритель однажды переходит условную границу своего отсутствия в произведении и начинает воздействовать на него со своей стороны. Это воздействие не обязательно начинается в момент акта, события, т.е. происходящего. Скажем, если мы говорим о спектакле, то он не обязательно начинается в зале. Начало может произойти и до собственно спектакля, а может и после него, когда зритель вступит в контакт с произведением, начнет писать письма, например, по его поводу, или придет в театр и начнет разговаривать с актерами, т.е. в сегодняшнем понимании собственно социокультурного бытия вступит в это бытие, он окажется в процессе его созидания.
Корр.: А если он при этом не сделает никаких таких эксплицитных акций, не напишет письмо, а просто уйдет после произведения и что-то будет с ним делать сам собой?
Б.Ю.: Это момент неконтролируемый, но очень интересный, потому что вполне возможно, что он войдет и начнет транслировать это бытие, начнет транслировать поток этого произведения или сам этот акт, воспринятый собой, в системе своих внутренних отражений. Начнет транслировать на людей и тем самым присоединится к авторству вот этого куска пространства, созидаемого куска. Он как бы окажется невменяемым автором. Чаще всего это происходит так.
Корр.: То есть это понятие общей зоны какой-то?
Б.Ю.: Да-да. Он станет участником этой зоны и начнет её транслировать на людей, на окружающих, на предметы, на собственное сознание. И так он окажется автором и участником собственно действия. Это вообще очень интересные процессы, по-своему близкие к каким-то очень древним представлениям о взаимодействии людей друг с другом, даже может о взаимодействии людей в духовном пространстве. Размышления, отчет о которых, или рефлексия на такого рода связку, на такого рода отношения, позволили нам более серьезно отнестись к самому понятию зрителя. Поэтому я и говорю. Зритель-автор. Т.е. я заранее предполагаю именно такого зрителя. Мои векторы в сторону зрителя, если условно принять эту триаду, связаны вот с таким к нему отношением, как практически к соавтору, только соавтору, находящемуся на своеобразной территории. Дальше следует опыт углубления, выяснения самой этой территории, на которой находится зритель. Некоторая такая дегустация. У нас сейчас введено внутреннее понятие дегустационных отношений. Не отношений, которые предполагают вмешательство, как скажем у медгерменевтов (инспекция), а именно дегустационных отношений, связанных с определенной бережностью, с определенным опытом созерцания, опытом восприятия полноты и сущности, стремление именно к сущности. Не внедрение в произведение собственной сущностью и тем самым незаметная подмена сущности какого-то иного бытия на собственную сущность. Не насилие, или агрессия, свойственные культуре 80-х гг., идущие вслед за иронией, и за оппозицией, а именно дегустации, т.е. восприятие той сущности – иной сущности – как бы на себя; и через это акт творения.
Я пользуюсь такой специальной лексикой, не свойственной обычным печатным разговорам. Все это исходит из простого сегодня восприятия культуры как акта созидания бытия. Мне кажется, что эти моменты сегодня тоже актуальны. Дело в том, что сегодня культура не может удосужиться некоторым отражением бытия, или некоторой работой на дистанции по отношению к нему или по отношению к самой себе.
И вот акт созидания, как бы минующий или преодолевающий тупики постконцептуального сознания, тупики лексических агрессий, которые были произведены постструктурализмом, скажем по отношению к нашему бытию, когда Деррида заносит сюда несколько пострайских песен, охватывает нашу поколенческую лексику, тем самым запирает её в некоторые такие внеаксиоматические, на самом деле, пространства, где располагаются или болтология, или тонкое такое балансирование между идеями. То что связано с особыми последними ритуалами постконцептуалистских акций («Шизокитай» и т.д.). Это забавно, интересно, но остается в 80-х гг, потому что не приобретает сильных энергетических пульсаций, не отдает себя в инобытии, в лучшем случае, как я уже сказал, захватывает его инспекциями, внедрениями, агрессиями, ирониями. А всё это, по сути своей, как мне кажется, сегодня (я это произношу ни в коем случае не приканчивая, не заканчивая никого) по-своему уже исчерпано.
Корр.: Вы говорите «дегустация»... Т.е. слово «растворение» Вам не нравится, т.е. оно как бы неактивное.
Б.Ю.: И вот сейчас как бы чуть-чуть протоптав эту территорию в не очень строгой болтовне, я могу попробовать вывести для Вас «персонажа». Дело в том, что персонаж для нас сегодня, это, в каком-то смысле, центральный мотив наших штудий, центральная для нас история.
Вначале я конкретно расскажу весь механизм. До этого я попробую вывести ещё одну историю. Вот существует оппозиция между видами искусства, эту оппозицию, очень актуально, по-своему принял на себя перформанс, некоторое пространство собственно само по себе не являющееся видом искусства, а только принимающее, в равной мере располагающее на своей территории все уже существующие сегодня виды искусства, и именно в их равенстве, скажем, изображение равно звуку, игра актера равна какому-то инсталляционному пространству – там нет приоритетов на этой территории. Обеспокоена эта территория только одним – попыткой индивидуального сознания двинуться в ещё никогда не бывшую сторону, т.е. изобрести или создать новый вид искусства. И вот на двух этих постулативных моментах сегодня существует перформанс. Это довольно существенно, потому что именно в перформансе само понятие персонажа...
Корр.: Вы имеете в виду театральный?..
Б.Ю.: Нет, не театральный.
Корр.: Т.е. как, например, у Ежи Гротовского.
Б.Ю.: Нет, Ежи Гротовский – это совсем не перформанс, это совсем другое.
Корр.: От него шла линия…
Б.Ю.: Нет, нет, не от него. Ни в коем случае. Перформанс – само слово и само понятие имеет очень больную традицию. Собственно, перформанс – невыясненная зона. Я о ней сейчас говорю, как о невыясненной зоне, говорю парадоксально, потому что на самом деле в Европе уже тома написаны про перформанс.
Вот я эти два постулата вывожу как бы наружу, вытаскиваю. Но перформанс само понятие персонажа аннулирует. В перформансе не может быть персонажа, потому что персонаж, персонажность принадлежат отчетливой традиции. Вот, скажем, если взять нью-йоркский андеграунд, Херинга, который работал очень активно с персонажем, вы помните его графику, там простые его человечки, состоящие из очень простого набора элементов: черточка + черточка + черточка + кружочек – и вот уже херинговский персонаж. Этот простой набор элементов позволил Херингу запустить целую мифологию про изложение их соотношений друг с другом. Сами персонажи практически неизменны, но актуализируются их отношения, как бы функция актуализируется, благодаря этой актуализации открывается возможность практически бесконечных мифологических построений.
Корр.: То, что Лёша Беляев делает в графике вот с этим жестом (показывает ладонь).
Б.Ю.: Ну, это все тот же самый ход. И это практически и есть основной, может быть я его не очень строго изложил, это основной ход обращения с персонажем сегодня, вернее, вчера с персонажем в культуре. Театральная культура всегда находилась как бы вне этих изысканий и такого рода работы с персонажем, потому что в театре существовали сложные техники, духовные техники, часто заимствованные из эзотерических техник и т.д. Вхождение – так называемое вхождение в образ – то, с чем, скажем, Станиславский работал, или отношений с персонажем – то что предлагал Брехт. Или выход на мегаперсонажность – то, что свойственно было польской культуре 70-х годов, или аннулировали персонажа как такового. Работа со своим телом, как с суперперсонажем бытия – это свойственно Гротовскому, который основные векторы своей духовной работы вывел на физиологию, на телесное, так сказать, и пользует напрямую ряд технологий, свойственных восточным медицинам, восточным духовным движениям. Основа его работы – глубокое познание механизма работы человеческого тела, включающего сюда и звук, и сознание и их соотношения с телом. Он просто берет тело за основу и дальше в очень строгой эзотерической иерархии, в очень строгом понимании, в очень глубокой традиции человека начинает его разрабатывать. И тоже выходит на то, что называется ритуалом, но с какой-то совсем другой стороны. Но я сейчас очень приблизительно говорю, у него сказано конечно намного точнее. Там свои очень серьезные штудии, связанные с идеей исцеления человека через театр и т.д. Но напрямую говорить о том, что скажем традиция Гротовского и вот такой выход на ритуал связаны с персонажем, мне кажется, наивным. Потому что миф лишен персонажа, сам по себе. Ведь персонаж понимается как нечто, располагающееся уже в человеке. Грубо говоря, персонаж – это есть только один из бесконечной возможности мифов. Его суть, его механизм связаны с тем, что персонаж – это некоторая позиция, которая может отразить в себе человека или уместить его в себя, вернее, человек пытается уместиться в персонаже. В театре человек добывает из себя определенные зоны, и эти зоны дальше затрачивает на созидание этого персонажа. Вот, скажем, именно этот подход представляется сегодня невозможным или исчерпавшим себя.
Корр.: Некоторого актерствования...
Б.Ю.: Да, некоторой частичности обращения с собой, некоторой девальвации себя во имя персонажа. Вот то, что наблюдается сегодня в тех спектаклях, где так или иначе актуально само это существование в форме персонажа. В образе, как это называется в театре. Вот именно такие отношения для театра, как это не парадоксально, или для живого искусства невозможны. Поэтому, с одной стороны, люди вышли из-под власти самой этой оппозиции исполнитель-персонаж, они выскочили куда-то в спонтанные игры или в мистерийные игры, в которых они самого этого отношения, предшествующего акта творчества, самой этой оппозиции «персонаж-исполнитель» не испытывали на себе вообще. Чаще всего это связано с тем, что они работают с внетекстовым пространством, в принципе; у них нет предшествующего их работе текста, по отношению к которому выделяется творящая уже театральное действие энергия. Они текст или порождают сами, как это связано сегодня с опытами итальянского авангардного театра, или вообще располагаются вне текста.
Корр.: Такое возможно?
Б.Ю.: Ну, конечно! Масса живых действий, где они просто мычат или молчат.
Корр.: Текст может быть и мычанием...
Б.Ю.: Может быть, но именно спонтанность предполагает работу по сложению чего-то иного, чем текст. И вот что это – «иное» – требовалось постичь. Я в свое время над этим думал, и мне пришлось найти для этого «иного» очень простое понятие – «речь», но выставить речь по отношению к тексту оппозиционно. На паре этих оппозиций начать работать и сделать различение – чем речь отличается от текста. И вот тут интересный момент заключен в том, что этот самый херинговский простой человечек заранее раз и навсегда зафиксированный, вывезенный из глубины нью-йоркских андеграундовых темниц в свет огромной массмедиа культуры, висящий, так сказать, на улицах Бродвея в трехметровом росте, так обозначающий свою неизменяемость, свою вековечность, как символ определенного круга нью-йоркского времени, этот самый человечек принадлежит текстосложению; и в этом смысле, по сути своей, Херинг ничем не отличается от провинциального рязанского актера (хотя там, в рязанском театре, могут переживаться самые невероятные приключения), который созидает некоторый образ Ивана Ильича из там какой-нибудь чеховской «Чайки» и, трудясь над этим образом, он практически создает такого же херинговского человечка, которого просто по темноте или по глубине душевной и по отсутствию вокруг блестящей нью-йоркской цивилизации не удается вытащить туда, в окно над Европой, понимаете? А по сути своей это все тот же самый труд над текстом, над вековечным простым человечком, которого ты дальше выделишь из себя и запустишь в отношения с другим человечком, и этот человечек будет точно так же от начала до конца проконтролирован, отрефлексирован тобой, воссоздан и тем самым сможет стать вещью. Так вот попытка персонажа, условно скажем, из-под овеществления в сторону непредсказуемости, в сторону неотграниченности, в сторону как бы недосозданности, незаконченности, т.е. всё то, что и происходит по отношению к тексту в речи, попытка этого условного отношения порождающего однажды и навсегда зафиксированного человечка, этого самого процесса, точнее, порождающего персонажа, выйти из-под власти такого одноразового пути и запуститься в перманентную эволюцию (я впервые произношу слово очень существенное), т.е. попытка создания эволюционирующего персонажа, т.е попытка текста превратиться в речь, способную в результате своего бытия в культуре или в мире, порождать персонажи, но не завершенные, а эволюционирующие, в этом смысле и незавершенные – это и есть та попытка, которая сегодня определяет отношения, перемену, очень серьезную перемену во времени.
Корр.: Вообще, из этого описания, он как бы и не персонаж.
Б.Ю.: Вот в том-то все и дело. У меня сейчас в речи плыл этот самый персонаж, плыл, добавляя себя, складывая на ходу, и он остался не до конца завершенным, не до конца сложенным. Вот Вы, когда перепечатаете этот текст, и речь превратится в текст, он завершится. Но сам мой персонаж остался незавершенным – он завершится только в вашем тексте. Как незавершено дерево по отношению к плоду; плод завершен потому что он произведен на свет, но и у него, в его завершенности кажущейся есть стадии: он может гнить, может исчезнуть, может быть употребленным и т.д. Вот таким плодом и одновременно таким деревом и является сегодня персонаж. Всё это имеет прямое отношение к «Саду», к нашей работе над Чеховым. Но я сейчас это рассказываю, не пользуясь профессиональными театральными или режиссерскими лексиками. Я пытаюсь все это артикулировать на каком-то светском уровне рассказа, потому что если бы я говорил строго, то строго я это уже сказал. Грубо говоря, у нас есть Фирс – вот сидит Фирс; у нас есть Лопахин – вот сидит Лопахин; у нас есть Яша – вот сидит Яша; у нас есть Раневская – вот сидит Раневская, у нас есть Всеобщая Мама – вот сидит Всеобщая Мама; у нас есть Варя – вот сидит Варя; у нас есть Аня – вот сидит Аня; у нас есть Прохожий – вот сидит Прохожий; у нас есть Симеонов-Пшцик – вот сидит Симеонов-Пищик. И эти самые, как Вам кажется персонажи, а мне давно уже известно, что они совсем не персонажи, и эти самые люди и одновременно эти самые персонажи живут на протяжении вот уже семи месяцев; живут, творят, делают экспозицию и развиваются, эволюционируют, записывая акт своей эволюции в виде конкретных произведений, оставляя свои плоды, ну, как бы плодонося.
Корр.: Важен именно этот процесс – процесс плавания?
Б.Ю.: Важно все. Нельзя сказать, что именно этот процесс...
Корр.: В какой момент эта речь становится реализацией какого-то языка или это речь, обреченная ничего не реализовывать?
Б.Ю.: Нет, это так называемая эвристичная речь – речь, порождающая в результате своего сложения открытия или плоды.
Вот я сейчас не размотан, на самом деле, по энергии на эвристику, но я её и демонстрирую Вам, т.е. я в процессе нашего разговора вот самой этой речью порождаю определенные смыслы, и эти смыслы складываются в некоторую систему, которая остается в записи и тем самым уже благодаря фиксации (это другой, отдельный технологический момент) устремляется в сторону текста, т.е. в сторону определенных консерваций. И это существенно для сегодняшних технологий. С одной стороны, я предлагаю Вам речь, освобожденную от текста, т.е. освобожденную от необходимости определенных строгих и навсегда данных соотношений, а именно речь эволюционирующую и имеющую в себе определенные порождающие технологии, т.е. отличающуюся от обычной речи. И вот эти различия её и определенные технологии очень существенны. Я условно называю её эвристичной речью, речью в процессе своего бытия или как бы порождения...
...Наша структура заготавливается как речь. Дальше она может приобрести какие-то определенные формы, определенность, прошу прощения за тавтологию. Это требует работы не менее напряженной. Эта речь может оказаться в виде театрального спектакля (нами заготовленная речь) и обнаружить себя в виде фильма, она может обнаружить себя в виде экспозиции, она может обнаружиться в каких-то других, непредсказуемых зонах, уже реализации. Дальше она, обнаруживающая себя в тех или иных ипостасях в природе, в социокультурном бытии может быть документирована, но для этого требуются особые технологии, как минимум осознающие, что они делают. Вот, скажем, особый способ считки этой речи, особый способ записи её, но потом ещё и разработки, проработки – самый простой пример (показывает на плеер). А если это речь в форме театрального действа, то способ её фиксации особый. И для этого, скажем, мне пришлось разработать целую теорию видео; видео как новый, совершенно отдельный вид искусства, способный фиксировать творящую себя в процессе речь.
Корр.: Т.е. это не очень точно, что это провокация. Важен именно момент фиксации.
Б.Ю.: Вы по отношению к этой речи оказались провокатором в чистом виде. Это значит, что вы её спровоцировали на рождение. Это очень существенный момент, потому что у нас существует так называемая (сейчас она развивается) теория провокаций.
Она очень простая. Это имеет отношение к сегодняшнему размышлению о персонаже. Вот, скажем, вы знаете, есть такие гонконгские игрушки, иногда гуттаперчевые, иногда из более твердой пластмассы. Эти фигурки, допустим, стреляющий индеец – он в своем жесте, в своем замахе очень определен; если его приставить, скажем, к портрету Ленина, сразу рождается высказывание. Ну, как бы соотнести по масштабу и приставить – взять в рамку. Определенное высказывание. Если его приставить к виску – рождается уже совсем другое высказывание. Если его приставить, скажем, к сережке, женской, с гранатом – будет третье высказывание. Таким образом, сама по себе эта фигурка способна порождать разные высказывания, и сама в себе высказывания не несет. Вот эта потенциально способная порождать высказывания фигурка называется нами провокацией.
Теперь условно назовем это не фигуркой, а неким принципом.
Фигурка – это просто пример. Этот принцип провокации лежит в основе некоторого размышления, которое я в дальнейшем осмелился для себя назвать искусством провокации. Вот провокация – это та фигурка, т.е. это то, что способно вступать в отношения, порождающие высказывание, но само по себе высказывания не несет.
Теперь сместим внимание на провокацию, а не на высказывание, которое она способна порождать, и представим себе выставку, состоящую только из провокаций, условно – экспозицию, из провокаций состоящую, представим себе спектакль, в котором как бы действуют провокации, заставим эти провокации вступать в отношения друг с другом. И, условно говоря, если это гонконгские наши солдатики, то это обязательно окажется военной игрой.
Корр.: А почему традиционный спектакль не является провокацией?
Б.Ю: Потому что в традиционном спектакле каждый образ сам по себе является высказыванием, в их соположении – соположение высказываний.
Корр.: Провокации нет?
Б.Ю.: Ну, конечно нет. Можно ли его представить в виде провокации? Можно, но для этого его надо уже иначе применить, т.е. привнести в него некоторые идеи, ему самому не свойственнее изнутри.
Я сейчас попробую вам объяснить, чтобы вернуться к этому самому херинговскому человечку. Вот херинговский человечек вплотную подошел к такого рода провокации, но ею не является, он является высказыванием в самом себе, единственное, что дает ему порождающую способность к тексту, это его способность вступать в отношения с самим собой и порождать на этом мифологическую ткань (индивидуального мифа – херинговского – незафиксированного в виде текста).
В этом смысле это близко, но именно на эпоху старше того, о чем я говорю. Потому что эти самые провокации, вступая в отношения друг с другом, порождают уже не текст, а порождают речь, и в этой порождающейся речи тоже порождают индивидуальный миф, но в отличие от херинговского мифа, не зафиксированный раз и навсегда и не несущий в себе имитации, симуляции, не несущий в себе моментов отражения мифа, а собственно являющийся как бы развивающимся, эволюционирующим, разомкнутым на будущее мифом. И более того, не включающим в себя отражения предыдущих мифов, а являющимся мифом нашего времени. Вот это очень серьезная проблема, связанная с тем, что мы не можем заимствовать сегодня, как мне кажется, уже бывшие мифы, уже бывшее пространство, мы не можем их актуализировать в своем бытии. Как только мы встречаемся искусством, которое актуализирует в своем бытии архаизмы или уже бывший миф, мы понимаем его границы. В этом смысле в ракурсе нашего сегодняшнего разговора, оно оказывается важным, существенным, но оно не оказывается возможностью ухватить настоящее время. У него нет такого аппарата, которым можно работать с настоящим временем, а то, о чем я говорю, как раз и работает с настоящим временем, т.е. с понятием настоящего времени или с его отсутствием, с тем конгломератом проблем, которые в связи с этим понятием возникают.
Корр.: Что нужно, чтобы высказывание сделалось провокацией?
Б.Ю.: Лишиться высказывания, лишиться его сущности. Чтобы высказывание оказалось провокацией… Возьмем какого-нибудь актера, типа Станиславского, и представим его в роли Фамусова. Вот он играл Фамусова. Теперь я хочу Станиславского как провокацию использовать, я возьму Станиславского и перенесу во времени в мюзикл, я его поставлю на сцену, вот в этом образе – он же зафиксирован в своем бытии, в своем образе; но я вырву его из связей, в которых он участвует и поставлю на сцену, где идет концерт Майкла Джексона. И Майкла Джексона оберну к Станиславскому, и попрошу, чтобы он пел Станиславскому. На самом деле я буду как бы Станиславского оборачивать к Майклу Джексону. Т.е. у меня родится высказывание уже никогда невозможное для Майкла Джексона и уж бесспорно, даже в страшных снах немогущее присниться Константину Сергеевичу.
И вот на сочетании двух этих фигур (в данном случае я сделал уже следующий акт) – я как бы их обоих превратил в провокации, я столкнул провокации, я вам показал, что может из этого получится.
А если бы я игру Станиславского, монолог Фамусова обратил к портрету, условно говоря, Ленина, то я бы породил первый уровень работы с провокацией, когда я фигурку приставляю к портрету.
И вот тут-то начинается вопрос. Исследование провокации – вот то, что меня сейчас увлекает как искусство. Описание их, формулировка, дегустация их. Сегодня, мне кажется, живой человек во многом к этому устремляется.
Корр.: А как быть с разомкнутостью мифа? С моментом веры? Ведь миф существует пока ты веришь...
Б.Ю.: Дело в том, что вера (если опять воспользоваться нашим утверждением) не принадлежит мифу – миф не требует веры. Вера принадлежит человеку, воспринимающему, миф. Т.е. вера есть уже знак выделенности из мифа. Вера есть понятие, во-первых, если говорить исторически, строго, более позднего времени, само понятие – «вера» и т.д.
Корр.: Вера – это серьезное отношение к тому, о чем Вы говорите...
Б.Ю.: Это совсем другое дело. Серьезное отношение может быть и к чайнику, оно не определяется отношением к мифу. Серьезное отношение, то есть то, которое требует всего человека, может быть и к чайнику.
Корр.: Тогда это миф.
Б.Ю.: Нет, я в этом смысле сейчас говорю, что если взять отношение предельное, чайник стоит на бытии человека, чайник стоит на пути работы культуры, превращающей, созидающей бытие. Если чайник оказывается в этом процессе, то мы назовем это серьезным отношением, и тогда, конечно, это окажется мифотворческим отношением. Вот собственно сам этот прием, этот ход, это принцип точнее всего – это то, что происходит у нас сейчас в работе над «Садом». У нас есть ритуальный, как бы канонический текст, из которого мы выходим уже персонажами, одновременно с этим – вот такими вот провокациями по отношению к бытию, и в процессе движения в нашей собственной жизни, одновременно, как бы вместе с нею, в бытии широком, как бы в пространстве бытия, мы порождаем высказывание на связях, в которые мы вступаем, захватываем их с собой, и тем самым наша территория расширяется, комплектуется, дальше начинаются работы между этими накопленными и захваченными, затащенными в пространство наших территорий высказываниями. Мы это все рефлексируем, разными способами обрабатываем и т.д. Порождаем уже вещество, которое при этом остается живым, в том смысле, что способно эволюционировать и в дальнейшем порождать новые принципы связей, новые высказывания. И таким образом живет и развивается структура, решая одну очень существенную для нас задачу: как сегодня сделать произведение, которое не зафиксировано и не закончено в своем бытии однажды и навсегда, а как бы разомкнуто, т.е. запущено в эволюцию, не знает своего конца и при этом есть. Как сделать такой спектакль, как сделать такую экспозицию, как запустить и создать такой фильм, что уж совсем, казалось бы, невозможно, как написать, в конечном итоге, такую книгу?
Корр.: Не кажется ли это такой красивой утопией?
Б.Ю.: Это является реальностью, которую мы документируем.
Я вас. приглашу на нашу экспозицию «Садовое искусство», я вам покажу наше видео. Вы в ней в данном случае пребываете. И когда вы говорите: «Не является ли утопией, то в чем я сейчас пребываю?» – это есть уже высказывание о собственном бытии, не только о нашем.
Корр.: Да.
Б.Ю.: И поэтому так радостно жить, ведь Сад – отчего Вы смеетесь? – это пространство снятых оппозиций – и он неуничтожим. Это я вам сейчас по-другому рассказываю технологию неуничтожимости. На самом деле, всё это довольно серьёзные вещи. Т.е. они требуют напряжения и выделений энергетических, и затрат не меньших, а может быть ещё больших, но при этом они дают такого уровня разрешения, которые ещё одновременно связываются понятием счастья.
Корр.: Т.е. создание мифа, которые вмещает в себя абсолютно всё?
Б.Ю.: Он не вмещает в себя абсолютно всё. Он разомкнут, но это не значит, что он всё в себя вмещает. Он радостный рождается в своем бытии.
Корр: Радость – вещь эмоциональная...
Б.Ю.: Это абсолютно не эмоции.
Корр.: А что это?
Б.Ю.: Радость – это качество бытия, качество бога, которое доступно человеку воспринять. Радость – это объективное чувство, а эмоция – субъективное. Радость – это то, чем наполнен мир. А мы испытываем радость, как может испытывать машину полигон, тогда, когда мы её принимаем на себя, а не тогда, когда мы порождаем её из себя.
Корр.: Надо думать, это не единственное качество...
Б.Ю.: Которое мы принимаем на себя? Конечно, нет. Вот гнев, это наше. А радость – не наше. Но я уже вышел в эзотерию. Предлагаю на этом остановиться.
Расшифровка - Н. Рожина