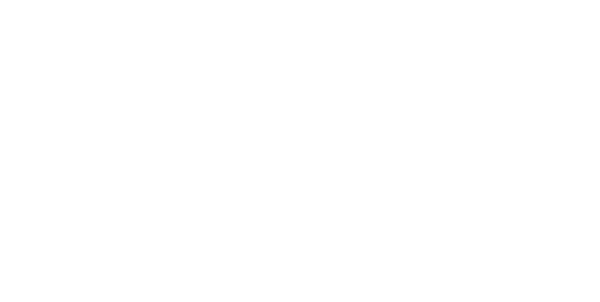Борис Кончеев
«Если говорить о чувстве в конце «Вишневого сада» — я бы сказала о нем в чеховском духе, что оно выносит тебя волной в гущу улицы и ты полон музыки, как рояль, на котором сыграли наконец не только на средних октавах, но и по всей клавиатуре и оставили его открытым во всем полнозвучии...»
Вирджиния Вульф. «Вишневый сад» (1920)
1. Начинается все как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей — Jane Eyre — Тайна красной комнаты, или сказки застойных времен — единственно доступного эссе одной истеричной поэтессы об одном черном, так сказать, солнце. Главное, что «в красной комнате был тайный шкаф».
2. Итак, вначале был многоуважаемый шкаф, вместилище нескольких сотен видеокассет с записью юханановских спектаклей, неприступная скала пли крепость. Теплым летним вечером мы пришли с Алексеем Парщиковым и Мартиной Хюгли в каморку театральной лаборатории, ютившейся в местечковом квартальчике Центра современною искусства па Якиманке (Юхананов располагался тогда в тылах галереи Гельмана).
3. Именно эти ряды пленок — важные свидетельства и одновременно свидетели — вполне по-садовски. Ибо спектакля как такового (в привычной, устоявшейся форме, которую предполагает жанр театрального представления) нет. Есть процесс (репетиционный или как угодно), изредка выскакивающий на поверхность. Случайные зрители случайного фрагмента видят лишь верхушки непрерывного графика. Тогда как именно «опущенные звенья» составляют 99,9 проекта. Сад живет, развивается, а видеозаписи фиксируют более или менее последовательно этот процесс. Поэтому и оказывается такая форма существования спектакля наиболее естественной и органичной. И, может быть, единственно возможной. Лабораторность (незавершенность) ее «продуктов» неожиданно становится залогом жизнестойкости. Неизвестность оборачивается вне/за-временностью. Выведенный за рамки ситуации, культурного контекста, этот «продукт» актуализируется лишь в момент предъявления и, значит, вновь и вновь приятен и свеж. В случае с Садом андеграундность, оказывается счастливо (и столь же мудро) найденным равновесием. Как в любой системе, претендующей на универсальность (а этот проект из их числа), конструкция Сада приятно щекочет эпидермис внутренней согласованностью составляющих, мастерской подготовкой всех и вся. Как лента Мебиуса, Сад неуязвим для анализа. Как андеграундность бытования мастерской, то есть незавершенность, принципиальная разомкнутость, открытость, оказывается и причиной, и следствием того-что-имеет-место.
4. «Вишневый сад» тем и интересен, что, существуя ВОТ ТАК, оказывается меньшим, чем театр. Потому и волнует, что больше, чем театр. Его «метафорическая арматура» (Валерий Подорога) нуждается в подпорке видеоэстетики не меньше, чем другой проект в декорациях или стационарном помещении. Видео и есть важнейшая составляющая представления. Отсюда — специфика, особенности. Синкретическая природа Сада, вызревающего сразу в нескольких направлениях, действительно может быть наиболее адекватно передана в формах домашнего видео, странного кентаврического мутанта («Имаго (то сеть высшая стадия развития. — Б.К.) — мутант» — давнишний, 88-го года текст Б.Ю.). Ибо жизненно важной оказывается именно жизненность, витальность Сада — Сада, рассматриваемого как текст. Ленточный глист видеопленки создаст иллюзию возможности прямого, как трамвайные пути, нарратива, потока, энергетической биомассы, мерцания замысла.
Сад в своей ежемгновенной изменчивости (мало ли какую конфигурацию ландшафта может создать еще раз переменивший направление ветер!) в своем неустанном становлении наращивает объем, накручивает обороты, расширяет экспансию в реальность, проявляется оттуда — сюда, просыпается здесь. Сад как процесс, непрерывный рост, развитие (все растительные метафоры) —обмен веществ, созревание плодов, фотосинтез, упругость вакуолей. (Жизнь, живой). Валерий Подорога: «В зависимости от того, что вы выбираете в качестве объекта исследования, точнее, первоисточника мысли — магнитофонную ленту, стенограмму, текст, —неизбежно будет выбрана и стратегия вашего понимания». Юхананов выбирает такую стратегию понимания (или стратегия выбирает его), где приоритетной оказывается как бы неотрефлексированная, спонтанная фиксация некоего биологического потока (вспомним постструктуралистское определение текста, приведенное Роланом Бартом в «S/Z»).
5. Но власть видео в проекте не тотальна. Сам Сад стремится к неагрессивной экспансии совершенно различных видов искусства — от сценографии до фотографии. В идеале можно бы было привлечь к работе над проектом различные физические приборы и датчики. Они фиксировали бы энергетические и какие угодно поля, их расцвет и медленное затухание, вычерчивали бы эстетически самодостаточные схемы, графики и диаграммы. (Чем хуже какая-нибудь ломаная графического цикла или серии фотографий?! Если за этим жизнь, то почему бы и нет?) И видится мечтателю глобальная индустрия Сада: вещи, рукописи, сувениры — все виды искусства (и шире — культуры) задействованы в явлении утопии народу. И чем больше задействованы, тем ближе ее гипотетическая реализация. И т.д.
6. Движение должно быть по касательной — вбок, боковым зрением. Прямоговорение обессмысливает саму процедуру поисков смысла — форма мысли неотделима от ее содержания. Разговор о метафизических проблемах должен представлять собой набор междометий, воздушных ям и опущенных звеньев, отчаянной жестикуляции и набор штампованных фраз, в котором невербализированный момент доминирует над сформулированными обломками чувства. Поневоле оценишь деконструктивный пафос Деррида, пытающегося навести порядок за сценой театра мысли — фанерные декорации пообносились, облезли и стали еще более неповоротливыми и цепляющимися.
Разговор о метафизических проблемах возможен только помимо слов. Это и есть представление, возникающее на фиксации энергетики «запаха», едва уловимых жестов или перемещений зрачка. Мысль, точнее образ мысли, переправляется напрямую, без посредников (которые требуют за посредничество мзду). Метафизика — это то, что не нуждается в фиксации на пространстве всеобщего, в гирляндах компромиссных слов. Вот она, благодарная сверхзадача театрального искусства — не жанрами баловаться. голливуды или бродвеи обгонять пытаясь, но выстраивать некие конструкции, метафизические арматуры, чтобы помимо жестов и слов сразу же на «подсознание» — точно лазерными косыми лучами…
7. Персонажи чеховского «Вишневого сада» имеют значительную силу воздействия именно потому, что оказываются в конкретной ситуации, развивающейся в конкретных исторических условиях, вне которых она не будет прочитываться как комическая или трагическая. Затевая свой Сад, Юхананов первым делом заявляет о выходе из пространства социальной «метаморфозы». Его волнует только миф, миф и ничего, кроме мифа. Но классическая матрица больше внешних проявлений и поэтому совершено не сводима к ним, она выдерживает испытание на сакральность. Отыне она уравнивается в правах с импровизационными зонами — когда конвенционный чеховский текст нарушается актерскими сиюминутными вставками, что делает каждое из представлений неповторимым и особенным.
То есть спектакль развивается «как обычно», пока кто-нибудь из исполнителей энергетически не дозревает до некоего импровизационного состояния. Слово за слово, и все участники Сада так или иначе «вынуждены» поддерживать протуберанец импровизационного своеволия. Спектакль меняет свои очертания, выходит из берегов, как река во время весеннего паводка. Но чу! — протуберанец, исчерпав все спои возможности, затухает, возвращаясь к остановленному на «паузе»» каноническому тексту. Так любая случайность входит в общее полотно текста, подтверждая косвенно жизненность происходящего.
8. Сад вываливается за скобки временного потока, являя собой зону некоей вненаходимости. Все события здесь происходят одновременно и параллельно друг другу: они оказываются событием всего со всем. И в этом смысле привычные начало и финал размываются, сводятся на нет. Сад нельзя зафиксировать еще и потому, что он не начинается и не заканчивается, но находится в постоянном движении-развитии. Интересно, что с проблемой отсутствия времени (здесь, увлеченный метаморфозами, ты не замечаешь прошедших часов) связана проблема отсутствия эротизма. ЛИР лишена их начисто так, вероятно, холодны в раю серафимы... Сад существует в доисторическом пространстве, то есть до грехопадения, которое и завело раз и навсегда счетчик времени — истории. Но садовые существа (именно так называют Юхананов и компания обитателей Сада), играющие ЛЮДЕЙ, разыгрывающих из себя ПЕРСОНАЖЕЙ чеховской комедии, не какие-нибудь андрогины или ангелы бестелесные — это люди, в силу ситуации общающиеся другими средствами и заменяющие, казалось бы, универсальный язык эротики некими энергетическими обменами. Функцию времени здесь берет на себя пространство, точнее — сама форма энергетического потока-реки, струящегося по спирали не от события к событию, но через них. Сад теряет смысл, если смотреть его кусками.