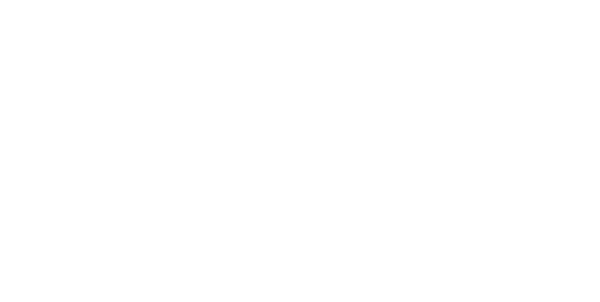48 часов путешествий в поездах и электричках, 365 дней жизни в клетке, 639 лет исполнения музыкальной партитуры и еще несколько десятков длинных спектаклей и перформансов — в гиде «Ножа» по щедрому на растрату времени искусству.
Десять минут до начала спектакля. На экране бежит обратный отсчет, зрители рассаживаются по местам. На импровизированной сцене никакого реквизита, кроме экрана и проектора. Когда отсчет достигает 00:00:00, раздается негромкий хлопок — как выясняется позже, это в соседней комнате проткнули иголкой воздушный шарик. Спектакль окончен.
Удивительно, но этот случай — не классический эпизод из американской истории перформативных искусств, а совсем близкий к нам арт-жест. Спектакль «Настоящее время» поставил театральный критик и автор журнала «Афиша» Алексей Киселев всего два года назад. Его показали единственный раз на площадке «Трансформатор», которая тогда находилась на Электрозаводе и была частью Театра.doc.
Вот как объяснил задумку сам Киселев:
Всякий спектакль бороздит время, и к середине действия его первая половина уже находится в прошлом, а вторая всё еще в будущем. Это неправильно и преступно по отношению к театральному искусству. Поскольку единственное преимущество театра перед другими видами творческой деятельности состоит в том, что оно реализуется принципиально в настоящем времени.
А «Трансформатор» объявил спектакль «конечной точкой в истории театрального искусства».
«Настоящее время» действительно предлагало самый необходимый театральный минимум. В performance studies (дисциплина, занимающаяся исследованием сценических искусств. — Прим. ред.) принято считать, что спектакль не может состояться без двух компонентов. Во-первых, нужно собрать в одном пространстве его участников — и зрителей, и актеров, если они есть. Во-вторых, определить длительность.
С обязательностью присутствия в эпоху постгуманизма и всеохватной диджитализации художники всё чаще спорят. Они ставят самоуправляемые объектные спектакли без людей, выводят актеров в скайп или, наоборот, предлагают зрителям наблюдать за прямой трансляцией действия в секретном месте.
Но способов победить время пока не придумали. Даже спектакль Киселева хоть пару мгновений, но длился: лопался тот самый шарик, застывали на экране пиксели. Увидеть за этим ноль — значит абстрагироваться. Хотя, конечно, сама концепция за «конечную точку» действительно сойдет. Но куда чаще художники работают не с обнулением времени, а с его избытком. Наверное, потому, что движение по возрастанию открывает бесконечно больше возможностей.
Теоретики перформанса даже предложили рассматривать долгие спектакли в рамках особой эстетической программы.
Вот что пишет Ханс-Тис Леман, автор важнейшей концепции современного театра как «постдраматического»:
«Искусство — это, по природе своей, пустая трата времени. И durational aesthetics только усиливает это свойство. Театр сам по себе а-экономичен, анти-экономичен: если бы его полезность оценивалась по экономическим критериям, его бы давно не существовало. Однако такая антипродуктивность — это возможность сопротивляться господствующему способу существовать во времени.
Durational aesthetics — это не художественное течение, а собирательное название для всех практик, которые имеют дело с вниманием ко времени и его протяженности. Одни изучают саму длительность, другие превращают ее в ресурс для исследования общения, страдания или способов рассказывать истории».
Такие арт-практики можно обнаружить и в XIX веке, и в начале XX, но особенно популярными они стали в послевоенный период. И продолжают оставаться сейчас — даже в России. А поскольку театр и перформанс всё же работают по большей части как искусство живого присутствия, к примерам с местным площадок стоит быть особенно внимательными. Удивительно, но хотя бы по одному местному спектаклю или перформансу можно обнаружить во всех важных видах durational aesthetics.
Новая внимательность
750 часов провела художница Марина Абрамович, молча сидя посреди одного из залов МоМА в Нью-Йорке. К месту напротив нее всё время стояла большая очередь, некоторые посетители засиживались часами и уходили в слезах. Другие чуть ли не каждый день возвращались на выставку «В присутствии художника», частью которой был одноименный перформанс.
Хотя в The Artist is Present… вся длительность опыта была доступна только самой Абрамович, да и 750 часов сложились из ежедневных восьмичасовых смен, но для всех посетителей и посетительниц перформанс оказался возможностью попасть во внеповседневное пространство. Они становились особенно внимательными ко взгляду художницы — единственному потоку информации в TAiP.
Собственно, многие художники, которые работают с временной протяженностью, считают главной проблемой современности распыление внимания между огромным количеством разнородной информации. Два полюса в поисках альтернативы — это создание пространств максимального комфорта и сенсорная депривация, поначалу часто мучительная.
Примером первого можно считать “sleep concerts. путешествие в себя” Николая Скачкова, который показывали летом на Дягилевском фестивале в Перми. Восьмичасовой совместный сон под мягкую электронику на уютных одеялах и подушках вместо рядов кресел авторы назвали «музыкально-сонной терапией».
Каноническим случаем второго — партитуру Vexations, которую Эрик Сати написал в конце XIX века, а впервые сыграл Джон Кейдж в 1950-е. Четыре такта, которые французский композитор предложил сыграть 840 раз подряд, должны были привлечь внимание публики к минимальным вариациям и отточить внимательность до предела.
Впрочем, сессия Vexations на всю ночь оказалась для Кейджа только началом. В 1985 году он сам написал партитуру с названием-инструкцией As Slow as Possible. Композитор не указал конкретного темпа, поэтому ее первое исполнение заняло всего полчаса. Но в 2001-м органисты из хальберштадтской церкви подошли к делу куда серьезнее: исполнять ASaP планируют 639 лет. Эта идея, как кажется, разламывает даже установку на телесное переживание хоть публики, хоть художников и выходит в область постчеловеческого.
Продаться или страдать
Durational art — искусство, которое исследует феномен длительности, чаще всего — в форме растягивания спектаклей, перформансов и других событий до непривычной длины: нескольких часов, дней или даже лет и веков.
Endurance art — искусство, основанное на эксплуатации и исследовании телесного страдания исполнителей или перформеров; часто пересекается с durational art, экспонируя длительные мучения, хотя может длиться и один момент — как, например, перформанс Shoot, в котором Крис Берден простреливал себе руку.
Slow art — искусство, основанное на замедлении времени и противостоянии ускоряющемуся течению реальной жизни; также часто пересекается с durational art, но может реализовываться и в форме спектаклей и перформансов более привычной длины.
Шесть часов на публике под сильнодействующими лекарствами, пять дней в шкафу и год из жизни двух людей, привязавших себя друг к другу двухметровой веревкой, — всё это звучит куда радикальнее, чем аккуратные и медитативные The Artist is Present… и As Slow as Possible.
Durational aesthetics сформировалась на рубеже 1970-х и 1980-х годов и выросла из движения против коммерциализации искусства.
Художники стремились создать работы, которые невозможно было зафиксировать в виде арт-объекта и продать в галерею. Именно поэтому основным материалом для работы стали время и их собственные тела.
Всё та же Марина Абрамович провела серию «Ритмов». Эти перформансы шли по несколько часов, но не имели заранее определенной длительности. «Ритм 5» закончился, когда публика унесла истекавшую кровью художницу с ледяного распятия, «Ритм 0» прекратила охрана, потому что из предложенного набора предметов для взаимодействия с Абрамович зритель выбрал пистолет и наставил на нее, «Ритм 2» шел, пока то самое лекарство не перестало действовать и художница не пришла в сознание.
Тейчин Сье, инициатор перформанса с веревкой, наоборот, работал со строго заданным временем. Каждая из его работ с 1978 по 1986 годы длилась ровно год. На столько он заключал себя в обустроенную, но совсем маленькую клетку, потом запрещал себе выходить из квартиры дольше, чем на 59 минут, потом, напротив, отказывался входить в любые помещения и целый год жил на улицах Нью-Йорка.
Предела Сье достиг в 1986 году, когда решил 13 лет заниматься искусством, не предъявляя его публике и не появляясь в публичных пространствах.
Однако пионером endurance art — так называют искусство, которое работает именно с физической выносливостью и страданиями, а не просто с долгим временем, — принято считать Криса Бердена. Именно он в 1971 году на пять дней закрыл себя в гардеробном шкафчике, а на следующий год провел 22 дня, не вставая с кровати посреди галереи.
Правда, самый известный перформанс Бердена, Shoot, занял буквально одно мгновение: ассистент художника с пяти метров прострелил ему левую руку.
Сегодня арт-мир уже научился интегрировать длительные перформансы в галерейную систему и уверенно продавать их. Это видно даже по The Artist is Present… с его форматом восьмичасового рабочего дня, а также со скандалом вокруг привлечения низкооплачиваемых наемных работников для исполнения старых перформансов Абрамович.
Но длительный поиск физических пределов по-прежнему завораживает художников.
Один из самых знаменитых спектаклей современности — 24-часовая «Гора Олимп» Яна Фабра. В ней греческие трагедии обретают максимально телесную форму: актеры засыпают и просыпаются на сцене, участвуют в античных ритуалах и выматывающих физических тренировках, едят и занимаются сексом.
Правда, недавно выяснилось, что «Гора Олимп», смелый и важный художественный жест, скорее всего, выросла из пропитанной сексизмом и харассментом театральной кампании. По крайней мере, так утверждают 20 бывших танцовщиков Фабра, которые подписали открытое письмо с выразительным названием «Нет секса — нет соло» и информацией об оскорблениях и приватных фотосессиях от режиссера. И это куда хуже, чем сознательные страдания на сцене или в галерее.
Традиционные ценности
24 часа по расписанию Леопольда Блума из «Улисса», 10 часов среди героев Достоевского, 8 часов с интеллектуалами из дореволюционной России — далеко не все длинные спектакли похожи на работы Фабра или Абрамович. Часто режиссеры всего лишь хотят наиболее полно представить литературный текст.
Многие из таких спектаклей организованы как серия актов в традиционном зале со сценой, на которой актеры в исторических костюмах разыгрывают среди декораций драматические эпизоды. Так, например, происходит в «Береге утопии» Алексея Бородина в РАМТе, где трилогия британского драматурга Тома Стоппарда представляет целых 35 лет российской истории рубежа XIX и XX веков.
Но возможны и вариации экспериментальности. Такой театр может предлагать режиссерское прочтение пьесы, локализованное в современности или противоречивых исторических событиях. Так, немецкий режиссер Франк Касторф пару лет назад показал семичасовую версию «Фауста», в котором история о продаже души ради познания вписана в колониальную историю Европы.
Дополняя Гете фрагментами из Эмиля Золя и Франца Фанона, а также вынося часть действия в парижское метро и транслируя видео на сцену в живом режиме, Касторф разговаривал с европейцами о современном миграционном кризисе.
Другая стратегия — сакцентироваться на том самом «настоящем времени» и вживить в театральное действие элементы повседневности. Именно так поступили в Школе драматического искусства, когда посетителям однократной акции в честь столетия романа Джеймса Джойса предлагали завтрак по рецептам из «Улисса» или приглашали к участию в работе газетной редакции, куда главный герой приходил подавать объявление. Правда, и здесь фокусом оставалась возможность полностью прочитать огромный роман, рассредоточив действие по всем театру.
Театр против кино
Пять дней, восемь модулей и 32 часа суммарного времени — так можно описать длительность одного из театральных сериалов. Его создатели представляют зрителям множество вариаций на тему огромного античного романа «Золотой осел», а в других проектах режиссеры берутся, например, за полное собрание сочинений Шекспира или всё те же греческие легенды.
Культуролог Виталий Куренной объясняет популярность киносериалов потребностью современного человека в длинных и связных историях, которые претендуют на объяснение реальности в целом или хотя бы одного ее аспекта.
«Сериалы — это […] тот продукт массовой культуры, который точно схватывает „дух нашего времени“ […О]собенность сериала — это […] большие нарративы. И они оказались востребованными. В этом смысле вся концепция постмодерна неправильна, это фальсификация», — Куренной противопоставляет монолитность сериалов расхожему тезису о фрагментированности современного мира.
Театральные сериалы тоже могут представлять длинную и самодостаточную историю. Именно с этой целью создавался первый в мире театральный — точнее, оперный — цикл. Изобретателем жанра был Рихард Вагнер, который в четырех частях «Кольца Нибелунга» представил метафорическую версию заката европейской цивилизации. Впрочем, сегодня части 15-часового «Кольца» редко исполняются друг за другом, чаще режиссеры выбирают лишь одну из них.
Однако жанр сериала из спектаклей продолжают развивать. Одна из самых интересных мыслей о его специфике принадлежит Борису Юхананову, который руководит «Электротеатром „Станиславский“»:
«В театре мы дарим не истории, мы дарим миры. Мы их создаем. Эти миры в отличие от историй, которые мы читаем и осознаем в одиночку, хочется постигать вместе. Я вижу, как зрители, приходя на второй или третий спектакль проекта, узнают друг друга и общаются. В театре возникает призрак клуба, какое-то новое приключение в реальной жизни».
Только один из сериальных проектов Юхананова — опера «Сверлийцы», музыку для которой написали пятеро современных академических композиторов, — предлагает последовательную историю. Все остальные так или иначе взрывают привычную связность сериала средствами театра.
Так, в «Синей птице» пьеса Метерлинка накладывается на воспоминания пожилых актеров, которые играют в спектакле. А в «Золотом осле» и «Орфических играх» местные и приглашенные актеры, режиссеры, композиторы, художники представляют небольшие наброски в форматах от визуального или постгуманистического театра механизмов до классической психологической игры. Все эскизы комментирует сам Юхананов (часто — довольно грубо, в площадном стиле; иногда доходит до конфликтов).
В целом такой театр демонстрирует арсенал возможностей современного театра и указывает на ограниченность стремления представить единственное прочтение текста — будь то романа Апулея или текстов Жана Кокто с Жаном Ануем об Орфее.
Тысяча и один друг
Двенадцатичасовая сессия вопросов и ответов, несколько месяцев работы на Британском сталелитейном заводе или девятилетняя альтернативная школа современного искусства — для всех этих проектов длительность стала способом наладить, исследовать или интенсифицировать общение.
Современные художники обнаружили в театре и исполнительских искусствах потенциал для исследований не только телесного опыта, но и способов коммуникации.
Все начиналось в те же 1960-е с британского комьюнити-арта. Местные левые предложили рассматривать проекты по вовлечению угнетенных групп в искусство именно как художественную практику. Стержневой идеей стало выстраивание демократического диалога между художниками и местными сообществами на базе локальных арт-центров. При удачном раскладе общение, которое включало арт-терапию, любительские спектакли, да и просто беседы, могло продолжаться годами.
Другим важным начинанием были интервенции Artist Placement Group.
Барбара Стивен 13 лет устраивала художников от Йозефа Бойса до членов Fluxus на крупные фабрики и в бизнес-корпорации. Она рассматривала как арт-проект не конкретные их предложения и акции, а собственную идею столкнуть два полярных, но важных друг для друга мира и сложные бюрократические механизмы ее реализации.
Такой подход к искусству долгое время оставался маргинальным — по крайней мере, так пишет историк и арт-теоретик Клер Бишоп в книге о партиципаторных практиках «Искусственный ад». Но она также утверждает, что в 1990-е годы именно долгие социальные проекты стали мейнстримом и чуть ли не главной политической задачей художников.
Один из самых ярких примеров, которые разбирает Бишоп, — школа Arte de Conducta кубинки Тани Бругеры. Художница девять лет проводила в Гаване бесплатные и открытые для всех арт-воркшопы. А потом представляла документацию этой работы по всему миру, в том числе и на Венецианской биеннале.
Общение становится темой и чисто театральных работ. Они, конечно, длятся не год и даже не месяц, но предлагают не менее интенсивное исследование. Например, уже упомянутая группа Forced Entertainment, которую вообще можно считать пионерами очень долгих спектаклей, недавно выпустила спектакль Quizoola!. В нем трое актеров на сцене непрерывно задают друг другу заранее подготовленные вопросы и ищут ответы на глазах у аудитории.
Спектакль тянется то 6 часов, то целые сутки. Зрители могут свободно входить и выходить (это, кстати, правило почти для всех крупных спектаклей), а их отношение к актерам и эмоциональные реакции непрерывно меняются.
Впрочем, благодаря диджитализации durational art об общении может работать и без живого присутствия. Выразительный пример — 1001 Night Cast малоизвестной австралийской художницы Барбары Кэмпбелл. Она собрала 243 писателей со всего мира и каждый день предлагала им написать рассказ длиной в 1001 слово по мотивам газетных заголовков о происшествиях на Ближнем Востоке. На протяжении 1001 ночи художница выходила в скайп, чтобы зачитать сегодняшний рассказ. А сейчас тексты представлены на сайте проекта. Длительность позволила Кэмпбелл создать максимально панорамную картину писательских практик и политической повестки, объединить множество художников и слушателей.
Выставки-ярмарки и экоспектакли
Семнадцать раз по четыре часа на сверхмедленное падение с лестницы, столько же на непрерывный и оглушительный стук камнем по мебели и на бесконечные признания в любви оконному стеклу в руках у художницы — такие перформансы вместе с 11 похожими вошли в одну из первых в истории крупных выставок durational art. Неудивительно, что она возникла вокруг Марины Абрамович и носила привлекательное название Marina Abramovic Presents.
Неудивительно также, что собранные перформансы к 2009 году казались многим арт-критикам воспроизводством клише: обнаженные тела, страдания художников и публики, медленное время. Однако сам формат выставки перформансов, который тогда как раз набирал популярность (в первую очередь благодаря «сконструированным ситуациям» Тино Сегала), существенно изменил их восприятие. Об этом интересно пишет исследовательница Лара Шэлсон:
«Разные ритмы перформансов, которые проходили одновременно в одном здании, сделали осязаемой неоднородность времени; они облекли в материальную форму мысль о том, что секунды и минуты, которые отмеряют часы, можно прожить по-разному, что время сжимается и растягивается в соответствии с нашими собственными скукой, вовлеченностью, удовольствием или неудобствами».
Таким образом, речь здесь шла уже не об «этике замедления», а о новом, сетевом подходе к исследованию времени.
Марина Абрамович проводила и другие выставки долгих перформансов. Иногда она акцентировалась на собственной практике или важнейших моментах в истории искусства, а иногда представляла лучшее из локального искусства — например, в Греции. Продолжает работать с перформативностью в галереях и Ханс Ульрих Обрист, куратор, который помогал Абрамович с MA Presents. Позже он объединялся с не менее известными художниками и кураторами вроде Клауса Бизенбаха или Филиппа Паррено.
Однако отдельно хочется вспомнить недавний московский проект — «Генеральную репетицию» V-A-C и ММОМА.
Хотя в постоянной экспозиции участвовали исключительно арт-объекты, кураторы предложили рассматривать пятимесячное действо как «спектакль в трех актах».
Сохраняя неизменными концепции первого и третьего этажей выставки, они пригласили сначала художников из «Театра взаимных действий», затем философа Армена Аванесяна и, наконец, поэта Марию Степанову создать из любых объектов в коллекции по «пьесе» для второго этажа.
В итоге некоторые любители искусства ходили на «Генеральную репетицию» с десяток раз. Длительность проекта и его неспешное развитие позволили им зафиксировать изменения в собственном восприятии коллекции.
Тенденция рассматривать крупные арт-события именно в связи с театром вообще набирает обороты. Из последнего следует вспомнить трехдневный экофестиваль «Архстояние». В 2018 году организаторы объявили его «пространством единого спектакля».
Кстати, среди рассыпанных по территории парка «Никола-Ленивец» перформансов и ландшафтных инсталляций попадался и образцовый durational art. Например, «Солнечный перформанс» Анастасии Беловой, в котором она на протяжении светового дня сменила три позы Сфинкса, и «Похороны мухи» Маши Кечаевой и Алексея Коханова, которые организовали ночной ритуал по славянским традициям вокруг огромной фигуры мухи.
Путешествия
По два дня на изнурительную прогулку по Мумбаи, революционные шатания по парижским барам и заброшенным церквям или путешествие в плацкарте по Московской области и окрестностям — длительные арт-практики не только размещаются в галереях и театрах, но и выходят в живые пространства.
Это неудивительно: популярность экскурсионных променадов хоть по самому центру города, хоть по опасным окраинам и сайт-специфик спектаклей в старых особняках или на бывших заводах растет с каждым месяцем. Правда, такой формат часто обвиняют в замене искусства на шоу. Но и он может становиться основой для серьезных критических перформансов.
Яркий случай — Memory Drawing X индийского художника Нихила Чопры, который, к слову, участвовал и в выставке Marina Abramovic Presents как самый известный представитель durational art из Азии. В 2010 году он в образе британского колонизатора отправился из северного конца Мумбаи в южный. На 30-километровом пути Чопра несколько раз останавливался, чтобы зарисовать углем важные туристические локации и публичные места. Ночевал художник на вокзалах.
В целом Чопра описывает этот опыт как удачную попытку перенастроить восприятие родного города: «[Город] как будто замедлился. Я чувствовал, что в меня проникают каждый вид, каждые запах и звук этого перенаселенного, культурно и экономического неоднородного города».
Идея о прогулке по городу как способе установить с ним новые отношения возникла еще в начале XX века среди дадаистов. Но в стройную теорию ее превратили в середине века ситуационисты.
Для участия в «дрейфах» необходимо было «оставить на какое-то время свои обычные цели и мотивы, мысли о своей работе, домашних обязанностях и других занятиях, и погрузиться в окружающую среду и те встречи, которая та в себе таит».
Сложно сказать, рассматривали ли сам Ги Дебор и его друзья дрейфы именно как арт-практику. Как и полагается в настоящих авангардных жестах, границы между искусством и жизнью были для них принципиально размытыми. И хотя рекомендуемой продолжительностью дрейфа были дневные сутки, на практике они часто длились по несколько дней, а то и собирались в целые секвенции длиной в пару месяцев.
Ситуационистские попытки сопротивляться «обществу спектакля» до сих пор развивают многие художники. В России их проповедует в первую очередь тот самый Лисовский, что курировал «Настоящее время» Киселева.
Его «Неявные воздействия» предлагают экстремальную прогулку по Москве с провокациями в ларьках и чтением стихов в метро не только группе друзей, а десяткам зрителей.
Правда, хоть длительность спектакля и не определена заранее, на практике он не затягивается дольше, чем на два-три часа. Совсем другое дело с экспедицией «Сквозь / Скольжение по возможностям». Каждый выезд многосерийного проекта спектакулярных путешествий по европейской части России занимает двое суток.
Октябрьский предпоказ стартовал с Курского вокзала и уместил в себя шатания по невзрачно-криминальному Льгову в Курской области, посещение андеграундной галереи в Железногорске — столице металлургической империи Алишера Усманова, просмотр детского спектакля «Заяц и ВОЛКшебство» в Орле, ужин в самом пафосном ресторане Тулы и даже ночевку на турбазе с православно-старорусским имиджем.
Агрессии в «Сквозь…» оказалось куда меньше, чем в «Неявных воздействиях». Четыре актрисы, по сюжету — невесты малоизвестных древнегреческих философов, либо вторгались с монологами в совсем безлюдные пространства вроде льговского двора или тульского гаражного кооператива, либо манифестировали исключительно дружелюбный настрой, играя в резиночку на орловской центральной площади или даже исполнив страстный танец в том самом ресторане.
Единственный конфликт случился в поезде «Орел — Тула»: одна из актрис сменила свадебное платье на БДСМ-костюм и продефилировала по вагону, и тут появился полицейский. Признаваться смешно и неловко, но я сама этот эпизод проспала, что, возможно, говорит о спектакле больше, чем мог бы его подробный и дотошный пересказ. Большая часть времени в «Сквозь…» действительно уходит на сон и длинные перегоны в неизвестном направлении: два путешествия на поезде позволяют хотя бы свериться с билетом, а вот в поездках на электричках и заказных автобусах команда специально скрывает пункты назначения — узнаешь только по слухам, до конца всегда не веришь, а на второй день и вовсе расслабляешься, перестаешь интересоваться и погружаешься в расслабленную бесцельность.
Собственно, попытка сконструировать необычное переживание времени и пространства вырастает из содержательной основы спектакля.
Лисовский ставит «Физику и философию» Вернера Гейзенберга — трактат, в котором физик середины XX века сравнивает учения древнегреческих философов с современными ему атомной физикой и квантовой теорией.
В разговорах режиссер признавался, что актрисы вряд ли полностью понимают текст Гейзенберга, который регулярно цитируют. Да и его собственные теории о нелинейном квантовом времени, которые существовали как ютуб-приложение к спектаклю, выглядели довольно спекулятивными. Цель «Сквозь…» — всё-таки произвести конкретный чувственный опыт, а не проиллюстрировать научные теории.
Наложение этого сложного академического языка на характерно-хтонические виды российской провинции позволило сместить зрительское восприятие в сторону переживания странности, а не привычной русской тоски.
Плавное совместное погружение во время и пространство бесцельности и необходимого доверия к окружающим, в конце концов, достигло ровно той цели, которую обычно заявляют авторы endurance art и slow art. Оно выстроило какой-то тип отношений со временем, который недостижим в реальной жизни. Остается только узнать, как на него влияло конкретное пространство: в следующих, весенних, сериях команда Лисовского будет ездить по другим маршрутам.
Временная альтернатива
Выяснив, зачем десятичасовые спектакли и перформансы длиной в год создаются, стоит встать на зрительскую сторону и ответить, зачем такие события посещать. Мучительными могут быть и два часа в театре на скучной пьесе, и реакция нашей телесной эмпатии на хоть даже минутный перформанс насилия, — что уж говорить о куда более длинных событиях. Но именно они действительно дают возможность физически, на собственной коже ощутить течение времени совсем не так, как в повседневности. Или, еще точнее, целиком сконцентрироваться на его переживании.
Говорят, один из первых длинных спектаклей был поставлен еще в 1672 году. Случайно или нет, но он же, десятичасовой «Эсфирь, или Артаксерксово действо» в селе Преображенском, был вообще первой театральной постановкой в России.
Но всё же бум длительного искусства не просто так совпал с информационным перегрузом и окончательно ускорившимся временем 1960-х. Не просто так и сейчас durational art собирается в выставки, представляя новое, сетевое время. Смотря на такое искусство панорамно, можно понять что-то важное о современности в целом.