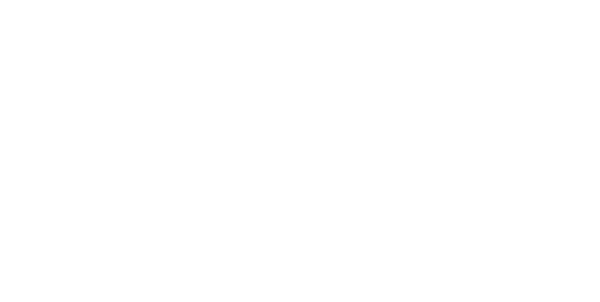Вместо слабых мира этого и сильных —
лишь согласное гуденье насекомых.
И. БРОДСКИЙ. Из «Писем римскому другу»
После спектакля главная, парадная лестница была запружена спешившим к выходу народом — значит, зрителей все-таки было порядочно. А совсем еще недавно театром, казалось, завладела пустота. Во время действия она зияла в черноте зрительного зала, а в антрактах, в блистательном фойе, пугала тревожной игрой пустых зеркал. Итак, зрители были, но их было мало. Хотя, как знать, быть может, вполне достаточно для Маленького балета.
Программа «Три грёзы» состоит, как нетрудно догадаться, из трех отделений. Причем каждое имеет свое название: первое — «Белая грёза», второе — «Черная грёза», а последнее (давайте порадуемся вместе его точности) называется «Последняя грёза». Все три части могут показаться, с первого взгляда, совершенно не зависимыми по отношению друг к другу, но такой взгляд в корне ошибочен. Появляющееся в самый неожиданный момент, пересекающее сцену неумолимой диагональю, зловеще кашляющее и зверски похохатывающее Нечто (обозначенное в программке как Чудовище) является своеобразным лейтмотивом всего действа. Чудовище это не видом своим страшно, а нравом. Внешне-то оно ничего себе, очень даже симпатичное — напоминает миниатюрный шалашик из пружинящего и подвижного пластика, внутри которого что-то шевелится (актёр Д. Циликин). А вот ведет себя прескверно: музыку послушать не дает. А музыка звучит прекрасная, романтическая: в первом отделении — Шопен, а потом — Шуберт и Паганини.
Кстати, об авторах. Балетмейстер Андрей Кузнецов, художник Юрий Хариков и режиссер Борис Юхананов наяву грезят каждый по-своему и каждый — вполне заманчиво и оригинально. Только вот (таково уж, видно, досадное свойство грёз) никак им между собой не сговориться. У каждого грёза своя, а общей почему-то не вышло.
В балетмейстера почти под самый занавес солист-танцовщик запустил собственной туфлей. На мой взгляд, А. Кузнецов этого все-таки не заслуживает. Его балет смотреть любопытно, по крайней мере, с познавательной точки зрения. А вернее… с узнавательной. А. Кузнецов вроде бы прямо не цитирует. Его пластическая «речь» как будто постоянно вязнет в каком-то бесцветном и скучном потоке однородных движений. Но иногда нет-нет, да и мелькнет что-нибудь определенное, указывающее «адрес». Стайка ребят и девушек рассыпалась по сцене («Белая грёза»). Началась нехитрая игра, больше похожая на неуклюжую детскую возню. Подчеркнуто угрощенные, примитивные, как будто бытовые движения. Здесь неловкость, «небалетность» обнажается, превращается в прием. Немало у кого на западе это уже было. Майкл Моррис… Джиджи Качулеану…
Оказывается, с «запада» на «восток» можно попасть за короткое время антракта. С началом следующего отделения («Черная грёза») вниманию зрителей была представлена чуть колышущаяся масса тускло позолоченных женских тел. У японской труппы под руководством Поппо Ширашии подобное мы уже видели. Правда, Кузнецов не решился измазать почти обнаженных женщин золотой краской, как это сделал отважный японец, а просто обтянул своих танцовщиц раскрашенным трикотажем.
Одним словом, игра «узнал — не узнал», предложенная А. Кузнецовым, довольно увлекательна. Скорость и точность ответа зависит от компетенции зрителя и ловкости балетмейстера. В хореографической «начитанности» Кузнецова сомневаться не приходится. Среди балетмейстеров существует небольшая группа вызывающих удивление чудаков, от-казывающихся смотреть чужие балеты — ну, чтобы не потерять свое. А. Кузнецов, к счастью, этого не боится и к таковым не относится. Но иногда он все-таки предлагает неразрешимые загадки. Силясь установить авторство очередного пластического пассажа, вы начинаете догадываться, что он принадлежит указанному в программке сочинителю. И вы радуетесь, потому что собственные «хореографические откровения» А. Кузнецова бывают интересны. Правда, «прорваться» к балетмейстерскому замыслу сквозь смешную подчас претенциозность нелегко, да и исполнители не дают, чиня вам препятствия с удивительным упорством. Простите, а нельзя ли чуть выше подпрыгнуть? А резче остановиться и повернуть голову? Да и похудеть бы, наконец… Бесспорным солистом руководимой А. Кузнецовым труппы является Анатолий Щетинин. Кузнецов его подметил, взял к себе и начал растить. И если раньше об этом танцовщике как-то и сказать было нечего, то сейчас А. Щетинин может быть и интересен, и убедителен. У него довольно специфическая внешность, не вполне благополучная с точки зрения привычных балетных норм, но именно в этом неблагополучии — его козырь. На него можно делать ставку, по-крупному и талантливо с ним играть. Такую попытку и предпринял Кузнецов, сделав танцовщику «прививку» демонизма: А. Щетинин в роли Паганини. Некая материализация граничащего с жутью восторга музыки… Щетинин здесь интересен и убедителен, когда его постигают технические неудачи. Взобравшись на черные атласные пуанты, он взметнул тело криком отчаяния. Это действительно убеждает: мужчина на пуантах (будь он даже сам Паганини) чувствует себя крайне дискомфортно. Дать понять это зрителю непростительно для танцовщика. Однако, искаженное болью тело Щетинина (встать на пуанты с непривычки мучительно больно) воспринимается как формула отчаяния, «прокол» артиста колет по назначению.
Хочется сказать о Виктории Гальдикас. Эту танцовщицу знают многие, помнят еще как солистку у Бориса Эйфмана. Потом она работала с Владимиром Карелиным, молодым петербургским балетмейстером, всего год назад закончившим консерваторию. Её тело, как игла — жестоко острое, неумолимое, точное. Выводит всегда узнаваемый, только ему одному присущий, изысканный и тревожный рисунок. Ей поручена главная партия в миниатюре, поставленной на музыку первой части «Неоконченной симфонии» Шуберта. Она «ведет» соло гобоя. А скорее — гобой ее ведет, обещая, вселяя надежду, суля утоление… Но надеждам не су-жено сбыться. Этой танцовщице свойственно одно сокровенное качество — в ее движениях есть какая-то трагическая, ранящяя неутоленность. А. Кузнецов это угадал, прибавив к немногочисленным удачам спектакля еще одну.
Пожалуй, разноцветье бабочек, подвешенных под колосники Юрием Хариковым, и навеваемое ими ощущение чуть липковатого конфетного рая вряд ли могли претендовать на гармонию с графической игрой черного и белого на самих подмостках («Белая грёза»). (Художник сильно порадовал, когда убрал их к середине действия.) Бесспорной удачей Ю. Харикова можно назвать то, что произошло потом. Смело пойдя на резкую смену костюмов (артисты сбрасывают с себя подчеркнуто строгие бытовые одежды и оказываются в плотно облегающих тело комбинезонах), он добивается удивительного: на наших глазах сценический объем трансформируется, сжимается, почти съедается. Мы видим лишь прихотливую смену черных и белых всполохов. Их тревожный ритм завораживает. Звучит Шопен, фортепианный этюд… невидимые пальцы перебирают черно-белую гамму клавиш…
Ах, подольше бы он звучал, Фридерик Шопен, да покороче были бы паузы между этюдами, потому что во время этих самых пауз становилось отчетливо слышно пренеприятное гудение, а вернее, жужжание. Это шмель жужжал. Громадный, мохнатый, противный, водруженный на высокий шест, воткнутый почти посередь сцены. Эту загадку загадал режиссер: почему шмель и зачем? И отчего в финале представления его, все так же настойчиво машущего своими учетверенными крылами, бережно держит в руках Андрей Кузнецов? Одетый во все черное, он сочувственно склонился над поверженным Паганини — Щетининым. Признаюсь откровенно — я не постигла тайны режиссерского замысла. Но есть у меня одна робкая догадка: быть может, это честно зудящее существо в руках балетмейстера — вопль тоски по несостоявшемуся, но такому желанному согласию авторов спектакля?