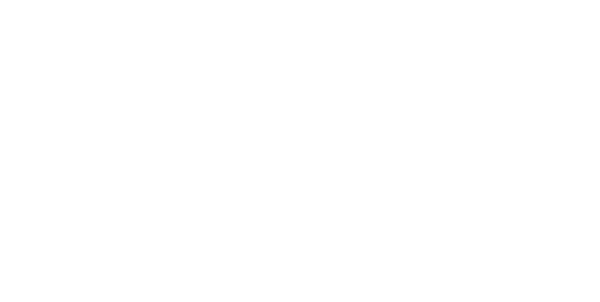Мне очень понравилось. А что мне понравилось? Когда только начал читать, я Борису Юрьевичу говорил про Фофанова… Вообще, первое, что меня поразило, то, что главный герой, Никита Ильин, постоянно наблюдает природу. И как-то он ее наблюдает пристально очень, скрупулезно. А потом оказывается… Ничего потом не оказывается. Вообще, в целом, в моих глазах, Никита Ильин переживает определенный духовный опыт. И по пути о своей собственной жизни заботится.
На днях я читал конспект книжки Мартина Хайдеггера «Бытие и время», сделанный Семеном Людвиговичем Франком. И Семен Людвигович Франк пишет (вот я смеялся, например), что в отличие от большинства немецких философов, у которых очень серьезная интеллектуальная техника соседствует с очень небольшим духовным содержанием, у этого Хайдеггера видно, есть серьезный личный духовный опыт. Точка. Есть что сказать! Восклицательный знак. Перед конспектом. И тут вот видно, что есть, что сказать ему, душе видно, что сказать. Есть что сказать. И она на протяжении – скольких? – четырехсот страниц что-то так или иначе говорит. Сама себе. Именно душа. Есть что сказать. Не когда я абстрактно или рассудочно задумываюсь о чем-то. А когда моя мысль и мое чувство, моя мысль о чувстве, мной пережитом, испытываемом в данный момент, является реальной заботой о моей собственной жизни. Но не о моей собственной жизни, как эмпирической жизни, а о моей собственной жизни как о жизни именно такого, духовного существа, для которого есть долг, например, которое понимает, что оно что-то должно. Это же особенность, как мне показалось, этого взгляда, который фиксирует себя на протяжении многих страниц. Она в том, что это такое сознание, которое начинается не с вопроса «что мне делать с моей свободой?» Вот есть я, и есть моя свобода. Чего мне с ней делать? Что сделать, чтобы ей никто не мешал. А тут на тебя смотрит взгляд, который в тот момент, когда наличествует, уже осознает себя должным. И даже сам этот взгляд сам себя не проблематизирует. И так понятно, каким он должен быть. Настоящим человеком. Соответствовать должному, да? А должное – оно и так всем известно. Но поскольку это не проговаривается специально, возникает ощущение интимности, именно интимности и дневниковости, потому что, когда ты вдруг начинаешь говорить с человеком на одном языке, предварительно не договариваясь об этом, и возникает это чувство интимности, чего-то общего, того, что сразу схватывается, но не обсуждается – такое сообщничество. Как будто бы ты сам в себе вдруг становишься человеком. Ты же знаешь, понимаешь, что есть должное, и человек соответствует этому должному. Когда он соответствует должному, он становится свободным. И ты же это и так знаешь, это и проговаривать не надо. А дальше активизируется какое-то такое же существо, одна из моих субличностей, которая так же смотрит, после каждого шага делает шаг назад и оценивает произошедшее. В первую очередь, с моральной точки зрения. Сказать или не сказать, терпеть или не терпеть? А что будет, если долго терпеть? А чем это закончится? Шаг – шаг назад, шаг – шаг назад. Мне кажется, по моему личному опыту, что все, что связано с духовным опытом, духовными переживаниями, оно связано с таким трудом.
Я сам, например, понял в определенный момент, что у меня очень сложные отношения с иудейской и христианской традицией, и обе они мне очень близки. Я принадлежу к тем людям, которых было много в ХХ веке, которые считали, что традиции намного ближе, чем кажется, и отношения и диалог там намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, а истина удостоверяется в этом диалоге, как считал мой любимый Эммануэль Левинас, например. Это к тому, что я очень много лет изучаю иудаизм и христианство и много лет думаю про религию, мораль, метафизику, читаю всяких теоретиков, традиционалистов. Очень много думал о соотношении язычества и, например, аврамизма и как-то жил в соответствии с собственными мыслями. Но в определенный момент понял, что надо не думать, а делать. Я всегда думал, что я знаю, что надо не думать, а делать, на самом деле я ж делаю, а не думаю. И в определенный момент я понял, что все не так. Я, в общем, не делаю ничего. Реально – ничего. И просто думаю, и говорю. У меня был опыт подчинения, попытки подчинения церковной дисциплине, традиционной дисциплине. И я всего лишь стал молиться по утрам и вечерам и следить за церковным календарем, за православным календарем. И оказалось, что все: богословие, философия и дальше – вот это парадокс – даже сам священный текст – находятся на периферии практики, которая по сути своей является духовно-образовательной. На кафедре я читаю библейский текст или философов-богословов, которые анализируют, либо читаю тех, кто обращается именно к горожанам, к думающим, к ученым. А тут я попадаю в дисциплину, которая перефокусирует мое сознание. И что я читаю? Я читаю молитву, а в молитве все сказано: в кого я верю и чего мне нужно. Мне нужно, чтобы меня простили за то, за то, за то, за то, что я вот тут забыл, тут не уследил, тут не посмотрел, вот этого обидел, этим пренебрег, на этого накричал, об этом забыл вообще, не поблагодарил – огромный список. Читаешь, читаешь – не перечитаешь. И потом, естественно, думать об этом начинаешь. Потом читаешь жития святых – то же самое. Это, как, например, финал «Фауста». Как он может читаться, когда неподчинение детерминизму человеческому, даже моральному, легальному является снисканием вечной свободы, венца мученического, как сказали бы христиане? И вот тут ты читаешь, в тебе реально меняется взгляд на традицию и на духовное. До определенного момента я всерьез считал, что духовное развитие – это интеллектуальное развитие. Чем я больше знаю, чем больше вопросов обдумал, тем мне легче, лучше, и я лучше других, да? Прям по Фоме Аквинскому – философия должна быть служанкой богословия. Конечно, не богословия, а богослужения. И вдруг понимаешь, что, на самом деле, все это ничего не значит. Если это, например, подтолкнуло на хоть какое-то подчинение традиции твоей жизни в результате многих лет, значит есть какой-то смысл. И тут совсем по-другому начинаешь жить, мотивы меняются.
У Канта человек сам по себе человечен, потому что в нем есть моральный и категорический императив, поэтому он говорит, что зло и грех – это всего лишь нарушение субординации мотивов. А я в определенный момент понял, что у меня субординация мотивов нарушена. И раз – перестраивается субординация мотивов, и ты, в первую очередь, начинаешь думать совсем о другом, смотреть на себя со стороны, как бы судить. Как апостол Павел в первом Послании к коринфянам говорит, что, если бы мы сами себя судили, то были бы не судимы Богом и другими. И вот вдруг у меня начались такие опыты, когда мне хочется начать злиться или противостоять, я стараюсь удержаться. Я так делаю много лет. Оказывается, так трудно взять себя в кулак, чтобы просто промолчать. Это, оказывается, очень трудно делать, просто практически невозможно. Ты берешь и понимаешь, и прям вырываешься сам из себя. Хочется выйти из себя. Иногда срываешься, потом спад страшный. И потом происходят как будто бы откровения, полумистические переживания, когда ни с того ни с сего на душе становится хорошо, благодатно. Вплоть до мелочей. Были облака, вдруг они исчезают. Причем ты же человек образованный, интеллигентный… поэтому возникает ощущение чуда. Не из мистических переживаний. Наоборот мистика появляется потому, что ты ни в какую мистику не веришь, но она происходит. И ты молиться сразу начинаешь – просто благодарить Бога за все. В определенный момент я понял, что только это и имеет отношение к духовному развитию, из которого реально все потом появляется. И динамика внутренней энергии, когда ты себя сдерживаешь от гнева и думаешь, вот я сейчас сдержусь, но куда же все потом денется. Ты думаешь сейчас, это что, мне теперь всю жизнь терпеть надо, да?! Если себя сдерживаешь, потом оказывается, что вся энергия, которая не вышла в качестве агрессии, например, она накапливается и разряжается в радости, в добре. Это я понял. Я понял, что такое алхимия. Реально понял. Много читал про философский камень, а тут понял, что это в душе происходят изменения, когда одно, не найдя выхода, превращается в другое.
И вот я встретился именно с таким взглядом. Здесь. В этой книге «Моментальные записки». С душой, которая не потеряла связи с Творцом. Как у Хайдеггера. Я барахтаюсь в своих возможностях, мне страшно, одиноко, повседневность, униженность, тоска, забота, ужас, не понятно. А тут опора не потеряна, есть связь с кем-то, меня превосходящим, который является моей настоящей, истинной сущностью и свободной, и я этому должному соответствую, так или иначе. Стараюсь и, таким образом, живу, и, таким образом, оказываюсь постоянно позади себя. Поднимаюсь к свободе как к ответственности за собственную жизнь, за других. Когда я забочусь не о себе и своих отношениях с этими монстрами, по-достоевски прямо «мы все ответственны друг за друга, и я больше всех», как в рассказах про иудейских и христианских мудрецов и святых, которые встречались с другим человеком как с Богом... Я понимаю, что мое соответствие образу и подобию состоит в том, каким образом я взаимодействую с ближним. И, если я, заботясь о своей душе, не о себе, а о своей душе, постоянно занят чужой жизнью или просто наблюдением за ней, попыткой ее понять и заботой как бы о ее спасении, как же я могу так, чтобы не сяк, и как мне в этой ситуации остаться?
Здесь, в этой книге – очень еврейский взгляд, какой-то такой талмудический, потому что это как раз иудаизму традиционно свойственен крайний этический рационализм. Например, Эммануэль Левинас, мой любимый, в талмудических лекциях комментирует талмудический трактат, посвященный устройству раввинского суда. И он спрашивает, зачем вообще Талмуду вот такая хрень? И он говорит, вот затем, что это особое отношение к человеку, к истине, когда осудить человека, в общем, практически невозможно. То есть раввинский суд устроен так, чтобы существовала максимальная возможность оправдания. Может быть, это в некотором смысле, особенность раввинистического иудаизма, что, с одной стороны, самое малейшее прегрешение по отношению к Богу или другому человеку карается смертью, да? И со страниц Библии можно выжимать кровь ведрами. А, с другой стороны, в истории иудаизма практически не было жертв. Особенность в том, что за любой грех нужно убивать, с одной стороны. А, с другой стороны, раввин сделает все для того, чтобы метафорически истолковать библейский стих и не камнями закидать неверную жену, а взять штраф, например, и таким образом разрешить ситуацию. И твой взгляд – я постоянно отступаю, но я не отступаю в тень, в угол, я отступаю из мира.
Левинас придумал термин «эксценденция», не транс-ценденция, а экс-ценденция, исход из мира, вообще. Я постоянно не вовлекаюсь, а вывлекаюсь из ситуации, чтобы она меня не затягивала. Тот же Левинас в талмудических лекциях комментирует талмудический отрывок на один из стихов Книги Исайи, где Исайя говорит, что в конце времен что-то там… а! будут стоять мужчины, и вот я вижу у всех мужчин руки на чреслах их. Как мудрецы Талмуда комментируют? Все мужчины (так крайне рационалистически!) – это мужественность как таковая, т.е. Господь. И почему-то мудрецы очень боятся этого дня. Почему? Потому что все мужчины держат руки на чреслах, а на чреслах – что? Меч. Значит, последний день славы Божьей – это день, когда Господь будет карать. И мудрецы Талмуда говорят, что трепещут в этот момент и люди, и ангелы. Почему? Потому что в конце времен злые… грешные должны быть принесены в жертву праведным, и Господь, мол, покажет. Но мудрецы Талмуда говорят, что ангелы и жители Земли страшатся, потому что тот, который сама мужественность, это не нежная Матерь Божья и не нежный, например, Сын Божий, а грозный Бог еврейский. И ангелы, и люди боятся, что он не станет карать. Ангелы – потому что они рациональные существа, и им не понятно, как это можно за грех не покарать. А люди боятся, что зло не понесет кару. Но как раз вот в этой «нерешительности» Творца по отношению к жестокости и человеку, например, тот же Левинас видит сущность иудаизма, потому что отличие иудаизма от христианства может быть в том, что еврей никогда не пойдет на войну с поднятым развернутым флагом под музыку бравурную военного оркестра и с благословения церкви. У еврея, говорит он, существует невозможность принятия клятвы без предварительной возможности в любой момент от нее отказаться. Я как бы не могу взяться ни за одно дело, не имея возможности в любой момент выйти из него, не участвовать. Вот эту рационально-этическую осторожность, духовную осторожность увидел я в герое «Моментальных записок».
Да, Никита Ильин постоянно наблюдает за природой, за природой не как за хаосом, а как за божественным созданием. Природа в отличие от человека, она более совершенна, потому что она подчинена должному, и в ней все как должно быть, поэтому красиво. А человек – нет, он сложнее. Поэтому с человеком намного труднее, столько беспорядка. А человек не подчиняется тому, чему даже природа подчиняется. В этом одновременно как бы и ощущение свободы, но и холодок этой свободы и всякие передряги.
И вот как раз в стихах у Фофанова какое-то такое соответствие. У Тютчева, например, чистый дух, а у Фофанова душа и дух вместе. Душа стремится к духу. Так и у Никиты Ильина. Он как поэт постоянно наблюдает соответствие между природой и душой, а, с другой стороны, у него еще есть много двойников. Фофанов в частной беседе говорил как-то, что скука настает, когда Фофанов дремлет, когда двойник дремлет или занят своими делами. Интересно, что у него, кроме инфернального двойника – такого альтер-эго – существует ангельский, световой двойник. Когда я одно стихотворение прочитал, меня тряхануло, потому что я привык, что в ХХ веке двойник – это «черный человек», который хочет занять мое место. А тут вдруг мой двойник – это не «черный человек», а светлый, т.е. настоящий я, который на меня смотрит, меня оценивает: «Эх, вот тут не так!» С одной стороны, очень люблю его, я и есть он, а, с другой стороны, мне так перед ним стыдно, я на него постоянно озираюсь, а он… то в толпе покажется, то там, то сям. Я узнаю в нем себя, это и есть я настоящий. И он – я настоящий – за мной следит, за моей жизнью, меня корректирует, и у меня, как у робота, не всегда все получается, а этот как бы постоянно за мной следует.
Вот этот диалог с природой, который ведет Никита Ильин – это…
Это познание. Это познание божественного мира. Это же след Бога, поэтому он драгоценный такой, алхимический, потому, что он след, потому что неизвестно, кто его оставил. Он драгоценен сам по себе. Я не знаю, чей это след, но он такой офигительный, да?! Это как, например, Евгений Всеволодович Головин в одной из статей, посвященных алхимии, цитирует римского поэта V века Валерия Флакка. Стихотворение про жизнь – в этой жизни нет выхода ни знающему, ни ищущему, потому что всех ожидает смерть, все наши попытки обречены. Такой как бы пессимизм. А последняя строчка: «И лишь мудрец восклицает: “Каков лабиринт!”» Может быть, алхимия – это когда я соответствую божественному замыслу в тот момент, когда я не забочусь о соответствии божественному замыслу, а беззаботно отношусь к системе целей, эмпирической жизни, и как бы отвлекаюсь. Как Густав Густавович Шпет говорил, что поэзия, в отличие от прозы, это результат отвлечения. Вот я отвлекся от потока, отвлекаюсь, и начинается поэзия. Формалисты называли это остранением, или какой-нибудь там Бахтин… А мне больше это нравится. Остранение уже затерли. ОТВЛЕКСЯ… Знак интересен не потому, что это знак чего-то, а сам по себе, с эстетической точки зрения. Вот когда он сам становится вещью, не знаком вещи; здесь природа не как знак Творца или законов космоса, а как вещь, кем-то оставленная, прекрасная, живая.
Расскажи о жанре. Ты сказал, что это дневник…
Это роман, в том смысле, в каком, например, является дневник или какая-то интроспекция жизни романом. Вот в том смысле. У Семена Людвиговича Франка в книге «Духовные основы общества» есть образ, от которого прямо трусить начинает. Он говорит, человек внутри слит с Богом и внутри представляет из себя целый космос, а, говорит, наружно, в своей периферии человек принадлежит сфере предметно-космического мира. Понимаешь? Вот представляешь это, и все меняется, оказывается, мир – это периферия, с Богом – внутри. Я же могу писать о том, что на периферии происходит, или отмечать, например, то, что происходит. Это роман, который происходит как бы внутри.
Скажи, а у тебя сложился диалог с героем, или ты прожил вместе с ним какой-то опыт?
Я чувствую сообщника. Сослуживца. Вот. Тот же Франк говорил, что человек, человечество – это аристократия космического бытия, т.е. человек – образ и подобие Божье и соучастник божественного творения, и поэтому каждого человека можно воспринимать как сослуживца в этом божественном деле, в деле завета. Он для меня сослуживец.
И армия как метафора?
Да, абсолютно! Да, я, кстати, об этом не задумывался. Да. Как у Августина был Град Божий и Град Земной, так и тут – божественная армия и земная. Например, Уильям Джеймс, философ-прагматист и классик психологии религии, говорил, что, с психологической точки зрения и прагматической, религия может представлять собой космический патриотизм. Космический, космополитический.
Здорово! Сейчас произошло открытие. Меня смущала тема армии. Я сейчас нашла для нее…
Сослужились, смотри!
Да! Армия здесь иногда уводит читателя в какую-то другую сторону. В опыте моих разговоров – женщины начинают жалеть: побьют, не побьют. Мужчины и женщины читают по-разному. Мужчины рассказывают свои переживания о своем опыте армии, кто-то говорит, что даже в голову не приходило что-то писать. А так… этой метафорой, правильной какой-то и светлой все раскрывается иначе
Последнее, что хочу спросить. Визуально, графически не было ли каких-то вещей, которые тебя смущали, когда читал? Разбивка на главы, или превью перед главами…
Нет. Возникает такая святая наивность. Не в смысле обиходном, а в смысле… я становлюсь собой и ощущаю себя свободным в тот момент, когда предельно открываюсь. Вот я – я. И нет специальности. Это вызывает доверие.
А что происходит с героем в финале, который получается не открытым, а, наоборот, закрытым. Герой растворяется…
Да, нет, он не растворяется, он куда-то исчезает. Он исчезает, как в фильмах Вуди Аллена. Какая-то мудрость… Жизнь, она за счет того, что она куда-то исчезает. И так остается самой собой, т.е. загадкой, остается на свободе.
Он куда-то ушел. Как Левинас говорит, что Другой – это, в первую очередь, он, а не ты, потому что ты – это второе лицо. Но даже, когда я общаюсь с другим, как с «ты», со вторым лицом, он всегда находится в следе собственного ухода, даже присутствуя. Даже, говорит, лик, лик другого человека может отсутствовать, принадлежа следу оности как бы. В этом смысле, история не заканчивается, т.е. жизнь не превращается в судьбу, жизнь не прикрывается крышкой гроба и в нее не заколачивается гвоздь, да? Как в биография: был, вот столько сделал, помер – и теперь мы все его любим. Не, не умер, ускользнул просто. И в этом кайф такой, благоговение перед жизнью.
За ним перестали наблюдать?..
Да-да. Как Морис Бланшо говорил, что хороший рассказ должен быть рассказом, который невозможно пересказать, т.е. его никак невозможно репрессировать, т.е. для того, чтобы его пересказать нужно будет просто заново его перечитать, т.е. он должен быть абсолютно защищенным. На него нельзя никак воздействовать и переврать, в этом смысле, тоже нельзя. А если он себя начинает столбить в конце, то он превращается в догму, настаивает на себе и помирает в тот же момент – превращается в памятник. Как Деррида говорил, что символ – это всегда надгробная плита, да? В этом смысле, культура – это кладбище, символ – это надгробные плиты. Ушедших… чего? Что-то уже ушло непонятно куда. Остались следы – памятники, памятники, памятники. А если памятники, то под памятниками кто-то закопан, в могилах. А тут, в романе, именно след. Поэтому герой исчез. Ни памятника – ничего. В этом смысле, круто! Хорошо.